Ласло Краснахоркаи Гомер навсегда (роман)
2025
Mindig Homérosznak László Krasznahorkai
Перевел с венгерского Юрий Гусев Дизайн обложки: József Pinter Рисунки: Макс Нойманн Пульсозвуки: Миклош Сильвестер
Светлой памяти переводчика Вячеслава Середы
Copyright © 2016 by László Krasznahorkai © Гусев Ю. П., перевод на русский язык, 2024 © Издание на русском языке, оформление, ООО «Поляндрия Ноу Эйдж», 2025
* * *
Ласло Краснахоркаи, бесспорно, глашатай нашей безумной уязвимой эпохи.Eileen Battersby, The Irish Times
Торжество мгновений причудливой необъяснимой радости.Ilana Masad, NPR
* * *
Алеша и Петар Милаш, спасибо вам.Корчула, осень 2016
Не узнай.
Диспозиция
 Убийцы, за ним гонятся убийцы, не лебеди, уж это точно, он, правда, понятия не имеет, чего вдруг с языка сорвалось это «лебеди», почему не бараны, не голуби или, скажем, почему не стайка стрекоз, ну и ладно, сорвалось и сорвалось, так он и повторял про себя про убийц и лебедей, в общем так иногда и надо делать, в смысле тупо повторять что-то про себя, ну да, у него обнаружилась вдруг такая склонность, редко, но бывает, и, наверное, это невредно — позволять вниманию отключиться, отупеть всего на одну-две секунды, но на эту одну-две секунды внимание вроде бы действительно отключается, особенно когда он находит себе местечко для отдыха — где-нибудь на скамье, под козырьком автобусной остановки или у фонтана, смешавшись с толпой туристов; убийцы, сказал он еще раз, не лебеди, и встрепенулся, озираясь, зрение вновь стало предельно острым, слух — прежним, и он снова способен был с убийственной точностью ощутить, приблизились они к нему или нет, не то чтобы он видел их или слышал, он никогда не видел ни одного из них и никогда не слышал их голосов, однако ж это зрение и этот слух — и даже обоняние — ох как нужны были, чтобы почувствовать, если они вдруг окажутся ближе, чем обычно, ведь его, в конце концов, преследуют, другими словами, на его жизнь посягают, вот что он должен всегда держать в голове — и это значит всегда в голове, в уме — и никогда не тешить себя даже краткой надеждой, что, может быть, здесь — где-нибудь, когда-нибудь — можно сбросить, чуть ослабить напряжение, потому что смертельная опасность как раз не висит над головой, — и он тут же одернул себя: не смей, смертельная опасность всегда висит над головой, может, она как раз и ждет этих секунд отключения, может, в этом их боевая тактика, их техника преследования, может, их метод — совсем не то, что ты думаешь, они, вполне вероятно, ждут мгновения слабости, можно даже сказать, только таких мгновений и ждут, может, они и не хотят ничего, только уловить такой вот момент, и всё, конец, ну конечно, как это они не хотят, они очень даже хотят, хотят захватить врасплох, в общем, ни к чему тут жонглировать словами, это лишнее, и не просто лишнее, а прямо-таки недопустимое, нельзя позволять себе выворачивать слова таким образом, чтобы они вывели к трусливой мысли, что есть-таки смысл у подобного рода трюкачества, тогда как он ведь знает, что его просто хотят убить, вот к чему все идет, словом, это вроде игры в гляделки, игры со смертельным исходом, игры, которую они, те, может, и в самом деле называют игрой в гляделки, и в этом что-то, наверное, есть, не станешь ведь отрицать, что терпения им хватает, они-то выдержат, не моргнут, выдержали ведь до сих пор, не моргнули и даже не скривились раздраженно, а поморщись они, это бы значило: ладно, всё, поиграли, и хватит, с нас довольно, — и тут же схватили бы его и подвесили бы, и выпотрошили, и разобрали по косточкам, и отрезали голову, и вынули сердце, да что угодно, лишь бы конец, нет-нет, такого он еще никогда не чувствовал, а чувствовал он ровно наоборот, а именно — что они не хотят уступать ни толики, будто им велено не закончить дело, не поставить жирную точку, а никогда не завершать преследование, думать не о результате, не о том дне, когда он будет у них в руках и они с ним покончат, а лишь о том, чтобы не прозевать, не потерять его из виду, следовать за ним неотрывно, как тень, чтобы он ни на миг не забывал, какова его жизнь, не забывал, что жизнь его есть не что иное, как быть преследуемым, что жизнь эту, его жизнь, у него в конце концов отнимут — если догонят.
Убийцы, за ним гонятся убийцы, не лебеди, уж это точно, он, правда, понятия не имеет, чего вдруг с языка сорвалось это «лебеди», почему не бараны, не голуби или, скажем, почему не стайка стрекоз, ну и ладно, сорвалось и сорвалось, так он и повторял про себя про убийц и лебедей, в общем так иногда и надо делать, в смысле тупо повторять что-то про себя, ну да, у него обнаружилась вдруг такая склонность, редко, но бывает, и, наверное, это невредно — позволять вниманию отключиться, отупеть всего на одну-две секунды, но на эту одну-две секунды внимание вроде бы действительно отключается, особенно когда он находит себе местечко для отдыха — где-нибудь на скамье, под козырьком автобусной остановки или у фонтана, смешавшись с толпой туристов; убийцы, сказал он еще раз, не лебеди, и встрепенулся, озираясь, зрение вновь стало предельно острым, слух — прежним, и он снова способен был с убийственной точностью ощутить, приблизились они к нему или нет, не то чтобы он видел их или слышал, он никогда не видел ни одного из них и никогда не слышал их голосов, однако ж это зрение и этот слух — и даже обоняние — ох как нужны были, чтобы почувствовать, если они вдруг окажутся ближе, чем обычно, ведь его, в конце концов, преследуют, другими словами, на его жизнь посягают, вот что он должен всегда держать в голове — и это значит всегда в голове, в уме — и никогда не тешить себя даже краткой надеждой, что, может быть, здесь — где-нибудь, когда-нибудь — можно сбросить, чуть ослабить напряжение, потому что смертельная опасность как раз не висит над головой, — и он тут же одернул себя: не смей, смертельная опасность всегда висит над головой, может, она как раз и ждет этих секунд отключения, может, в этом их боевая тактика, их техника преследования, может, их метод — совсем не то, что ты думаешь, они, вполне вероятно, ждут мгновения слабости, можно даже сказать, только таких мгновений и ждут, может, они и не хотят ничего, только уловить такой вот момент, и всё, конец, ну конечно, как это они не хотят, они очень даже хотят, хотят захватить врасплох, в общем, ни к чему тут жонглировать словами, это лишнее, и не просто лишнее, а прямо-таки недопустимое, нельзя позволять себе выворачивать слова таким образом, чтобы они вывели к трусливой мысли, что есть-таки смысл у подобного рода трюкачества, тогда как он ведь знает, что его просто хотят убить, вот к чему все идет, словом, это вроде игры в гляделки, игры со смертельным исходом, игры, которую они, те, может, и в самом деле называют игрой в гляделки, и в этом что-то, наверное, есть, не станешь ведь отрицать, что терпения им хватает, они-то выдержат, не моргнут, выдержали ведь до сих пор, не моргнули и даже не скривились раздраженно, а поморщись они, это бы значило: ладно, всё, поиграли, и хватит, с нас довольно, — и тут же схватили бы его и подвесили бы, и выпотрошили, и разобрали по косточкам, и отрезали голову, и вынули сердце, да что угодно, лишь бы конец, нет-нет, такого он еще никогда не чувствовал, а чувствовал он ровно наоборот, а именно — что они не хотят уступать ни толики, будто им велено не закончить дело, не поставить жирную точку, а никогда не завершать преследование, думать не о результате, не о том дне, когда он будет у них в руках и они с ним покончат, а лишь о том, чтобы не прозевать, не потерять его из виду, следовать за ним неотрывно, как тень, чтобы он ни на миг не забывал, какова его жизнь, не забывал, что жизнь его есть не что иное, как быть преследуемым, что жизнь эту, его жизнь, у него в конце концов отнимут — если догонят.

1. Скорость
 Совершенно очевидно, что правильно выбранная скорость — это ошибка, причем такая ошибка, допустить которую он никогда, ни разу, не имеет права, ведь правильная скорость сделает его уязвимым, его передвижение будет поддаваться расчету, то есть он широким движением — причем по собственной воле — как бы расстелет ковровую дорожку, дескать, извольте сюда, сюда, если пойдете сюда, если будете гнаться за мной в этом направлении, то точно настигнете меня там-то и там-то, нет, разумеется, о таком и речи быть не могло, с того момента, как все началось, он постоянно выбирал скорость неправильно, ее невозможно было предугадать, он двигался то слишком быстро, то чересчур медленно, то — и это был, если можно так выразиться, его излюбленный метод — чередовал быстрое и медленное передвижение как попало, пока и сама беспорядочность эта не бросится кому-то в глаза, вот что было главное — никому не бросаться в глаза, так что он сам прерывал это горькое наслаждение, сам командовал себе «стоп», в общем, для него не существует ни правильно выбранной скорости, ни правильно выбранного метода, ни на одном участке своей траектории бегства он не может принять правильного решения, он должен все решать совершенно неправильно, всегда, беспрерывно решать все неправильно, чтобы сбить преследователей с толку, таким образом, он должен во всем избегать правильных вариантов ничего размерен ног о, ничего разумного, никакой продуманной стратегии, только беспорядочность, только хаос в движении, только спонтанные решения, внезапные, неожиданные, противоречащие логике, незапланированные порывы — вот чего он должен держаться, вот чего он держался с того момента, как после долгого, невыносимо долгого пути вновь добрался до морского берега, до города Пула, когда бестолковой шумной толпой прибывших, словно обломок доски волнами, вынесен был с корабля на берег, чтобы в припортовом доке на огромном металлическом щите увидеть название города, ведь это он делал в течение десятилетий или по крайней мере нескольких лет — он не считал, годы прошли или десятилетия, не все ли равно, что покажет трезвый календарь, пускай не годы, а лишь месяцы, лишь недели — ему время, что он провел в пути, казалось годами, иной раз действительно десятилетиями, ведь в самом деле все равно было, пару' месяцев назад он отправился в путь или, может, пару недель, в конце концов он мог бы даже подумать, что это произошло только что, то есть ему только что вынесли приговор, суть которого ему была очень даже понятна, ведь есть же причина, чтобы этот приговор был вынесен, в этом-то он не сомневался, неясно было лишь, что это за причина.
Совершенно очевидно, что правильно выбранная скорость — это ошибка, причем такая ошибка, допустить которую он никогда, ни разу, не имеет права, ведь правильная скорость сделает его уязвимым, его передвижение будет поддаваться расчету, то есть он широким движением — причем по собственной воле — как бы расстелет ковровую дорожку, дескать, извольте сюда, сюда, если пойдете сюда, если будете гнаться за мной в этом направлении, то точно настигнете меня там-то и там-то, нет, разумеется, о таком и речи быть не могло, с того момента, как все началось, он постоянно выбирал скорость неправильно, ее невозможно было предугадать, он двигался то слишком быстро, то чересчур медленно, то — и это был, если можно так выразиться, его излюбленный метод — чередовал быстрое и медленное передвижение как попало, пока и сама беспорядочность эта не бросится кому-то в глаза, вот что было главное — никому не бросаться в глаза, так что он сам прерывал это горькое наслаждение, сам командовал себе «стоп», в общем, для него не существует ни правильно выбранной скорости, ни правильно выбранного метода, ни на одном участке своей траектории бегства он не может принять правильного решения, он должен все решать совершенно неправильно, всегда, беспрерывно решать все неправильно, чтобы сбить преследователей с толку, таким образом, он должен во всем избегать правильных вариантов ничего размерен ног о, ничего разумного, никакой продуманной стратегии, только беспорядочность, только хаос в движении, только спонтанные решения, внезапные, неожиданные, противоречащие логике, незапланированные порывы — вот чего он должен держаться, вот чего он держался с того момента, как после долгого, невыносимо долгого пути вновь добрался до морского берега, до города Пула, когда бестолковой шумной толпой прибывших, словно обломок доски волнами, вынесен был с корабля на берег, чтобы в припортовом доке на огромном металлическом щите увидеть название города, ведь это он делал в течение десятилетий или по крайней мере нескольких лет — он не считал, годы прошли или десятилетия, не все ли равно, что покажет трезвый календарь, пускай не годы, а лишь месяцы, лишь недели — ему время, что он провел в пути, казалось годами, иной раз действительно десятилетиями, ведь в самом деле все равно было, пару' месяцев назад он отправился в путь или, может, пару недель, в конце концов он мог бы даже подумать, что это произошло только что, то есть ему только что вынесли приговор, суть которого ему была очень даже понятна, ведь есть же причина, чтобы этот приговор был вынесен, в этом-то он не сомневался, неясно было лишь, что это за причина.

2. Лица
 Долгое время он полагал, что должен знать тех, кто за ним гонится, иначе как он их обнаружит, когда оглянется и взгляды их встретятся, он пытался составить их облик из цвета глаз, высоты лба, из прически, оттенка волос, из формы носа, рта, губ, из пропорции подбородка, бровей, скул к лицу в целом и так далее, но когда ему удавалось закончить хотя бы с каким-то одним лицом, он видел перед собой лишь нечто неопределенное, ни на что не пригодное, среднее арифметическое из многих лиц, то есть видел ничего не говорящее лицо, а это вело на очень скользкую почву, потому что тогда он мог бы подумать, что за ним гонятся не несколько человек в толпе, а прямо-таки сама толпа в целом, однако это было бы неправдой, ведь толпу, сбившуюся воедино по самым разным причинам, данную так называемую уличную толпу, в которую его как раз занесло, в которой он как раз скрывается, толпу эту ну ни капли не интересует, тут он или нет, является он частью этой толпы или не является, толпу ничто не интересует, у толпы нет своего «я», своей воли, цели, своего направления, ведь она даже не думает о том, что она — толпа, так что ему по-иному нужно было относиться к лицам, и прежде всего надо было отказаться от намерения составить лица преследователей из глаз, лбов, волос, носов, ртов или ушей, а вместо этого сконцентрироваться на взгляде, да, на взгляде, на полной истории взгляда за одно-единственное мгновение, когда какой-то из этих взглядов встретится с его взглядом — и вдруг отдернет голову, на взгляде, для отождествления которого он должен был выработать в себе некую неизвестную ему до сих пор способность, нет-нет, не поймите неправильно, ему в самом деле нужно было обзавестись способностью увидеть полную историю беглых взглядов своим тоже беглым взглядом, и для этого недостаточно было зрения — во всяком случае, в привычном значении этого слова, — он, собственно, должен был, молниеносно обернувшись и скользнув взглядом туда-сюда, с уверенностью понять, принадлежит ли этот или тот взгляд, с его полной, без малейших пропусков, историей, принадлежит ли он его преследователям, и это притом, что он еще даже понятия не имел, трудно ли было бы ему выработать в себе эту способность, — нет, не было трудно, достаточно было бояться, жить в страхе с тех пор, как он заметил, что его преследуют, что за ним гонятся, и единственный способ выжить для него — удариться в бегство и остаться беглецом.
Долгое время он полагал, что должен знать тех, кто за ним гонится, иначе как он их обнаружит, когда оглянется и взгляды их встретятся, он пытался составить их облик из цвета глаз, высоты лба, из прически, оттенка волос, из формы носа, рта, губ, из пропорции подбородка, бровей, скул к лицу в целом и так далее, но когда ему удавалось закончить хотя бы с каким-то одним лицом, он видел перед собой лишь нечто неопределенное, ни на что не пригодное, среднее арифметическое из многих лиц, то есть видел ничего не говорящее лицо, а это вело на очень скользкую почву, потому что тогда он мог бы подумать, что за ним гонятся не несколько человек в толпе, а прямо-таки сама толпа в целом, однако это было бы неправдой, ведь толпу, сбившуюся воедино по самым разным причинам, данную так называемую уличную толпу, в которую его как раз занесло, в которой он как раз скрывается, толпу эту ну ни капли не интересует, тут он или нет, является он частью этой толпы или не является, толпу ничто не интересует, у толпы нет своего «я», своей воли, цели, своего направления, ведь она даже не думает о том, что она — толпа, так что ему по-иному нужно было относиться к лицам, и прежде всего надо было отказаться от намерения составить лица преследователей из глаз, лбов, волос, носов, ртов или ушей, а вместо этого сконцентрироваться на взгляде, да, на взгляде, на полной истории взгляда за одно-единственное мгновение, когда какой-то из этих взглядов встретится с его взглядом — и вдруг отдернет голову, на взгляде, для отождествления которого он должен был выработать в себе некую неизвестную ему до сих пор способность, нет-нет, не поймите неправильно, ему в самом деле нужно было обзавестись способностью увидеть полную историю беглых взглядов своим тоже беглым взглядом, и для этого недостаточно было зрения — во всяком случае, в привычном значении этого слова, — он, собственно, должен был, молниеносно обернувшись и скользнув взглядом туда-сюда, с уверенностью понять, принадлежит ли этот или тот взгляд, с его полной, без малейших пропусков, историей, принадлежит ли он его преследователям, и это притом, что он еще даже понятия не имел, трудно ли было бы ему выработать в себе эту способность, — нет, не было трудно, достаточно было бояться, жить в страхе с тех пор, как он заметил, что его преследуют, что за ним гонятся, и единственный способ выжить для него — удариться в бегство и остаться беглецом.

3. Отношение к защищенному месту
 Его не готовили к тому, что когда-нибудь ему понадобится то знание, от которого сегодня зависит его жизнь, его учили совсем другому: обучали древневерхненемецкому языку, и древнеперсидскому языку, и еще латыни, и еще ивриту, потом еще мандаринскому языку и японскому эпохи Хэйан, и еще склоняли познакомиться с санскритом, и с языком пали, и с древним суахили, и с наречием чанго в Молдове, потом — причем никто не предупредил, что это ему не понадобится, — ему пришлось углубиться в Еврипида и Ксенофона, в Платона и Аристотеля, в Лао-цзы, Конфуция и Будду, потом, параллельно с ними, его усадили за Тацита, Цицерона, Горация и Вергилия, спустя какое-то время — за Руми, Данте, Шекспира, Ньютона, Эйнштейна и Толстого, после ему порядочно влетало, если он недостаточно прилежно выполнял задания по алгебре, геометрии, теории множеств, топологии, по математике под названием дискретная и вообще по аналитическому мышлению, а еще нужно было штудировать мировую историю, психологию, историю науки, дистанционную и локальную торговую бухгалтерию, антропологию, философию и логику, потом пришлось сдавать экзамены по истории права, по гражданскому и уголовному праву и, наконец, еще по истории мировой моды и даже по истории венгерского языка, но ни одна собака не учила его резать, шить, копать и забивать гвозди, сваривать, связывать и развязывать, отвязывать и привязывать одно к другому, другое к третьему, его не учили ориентироваться на местности, не учили технике выживания, никто пальцем не пошевелил, чтобы научить его сражаться без оружия, обезвреживать мины, взламывать коды, разбираться в подслушивающих устройствах, защищаться от радиации, обеспечивать безопасность онлайн-систем, не посвящали его в секреты единой теории поля, не объясняли, что такое универсальный принцип возмещения ущерба и как вообще можно уберечься от зла, так что в тот момент, когда выяснилось, что его ждет, когда он понял, что путь его будет идти из города в город, с суши на море, из дождя в засуху, из зноя в стужу, изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту и из мгновения в мгновение, — ему пришлось успеть все освоить, пока длится одна вспышка молнии, и знание это должно было появиться в его голове так же внезапно, как и знание того, что все, что ему необходимо, это не знание вовсе, а лишь случайное прозрение, вроде того, что относится к обращению с выключателем, где можно опытным путем постичь: если ты нажал на рычажок, то свет или вдруг вспыхнет, или внезапно погаснет, — потому что именно это с ним и произошло, внезапное действие рефлексов во время вспышки, и самое важное в этом было понять, пока длится одна вспышка молнии, что важнейший элемент бегства — вовсе не поиск защищенного места, для него защищенное место — это и есть опасность, потому что преследователи как раз в таком месте и будут его искать, а кроме того, в защищенном месте усиливается страх — от сознания, какая же огромная опасность подстерегает тебя снаружи, и страх этот усиливается сам по себе, сам себя раздувает, затмевая, заглушая все остальное, подталкивая тебя к абсурдным, то есть ошибочным выводам о том, что там, снаружи, на самом деле, — вот откуда берется эта самоубийственная стратегия, которая делает тебя беззащитным в защищенном месте, так что решение — в том, что защиту нужно находить не в защищенном месте, а в самой опасности, то есть снаружи, где действительно есть, — если он вообще существует, то именно там — шанс оценить опасность, грозящую ему непосредственно, почувствовать непосредственную близость опасности, и где он не в воображении представляет, какой может быть интенсивность данной опасности в данном пространстве, которое как раз и защищает его, но где он видит или, точнее, чувствует, то есть может точно определить, что именно способно навлечь на него опасность, где он может с безошибочной уверенностью сказать, откуда именно на него нападут, а значит, куда ему нужно в тот же момент метнуться, поскольку только так можно принять решение — причем тоже за микроскопическую долю секунды — относительно технических подробностей спасения, только таким образом можно выбрать самый подходящий момент и самое лучшее решение, причем он — и повторить это в данном случае отнюдь не будет излишней роскошью — должен знать, да он, собственно, и знал, что нет такого — «самого подходящего» и нет такого — «самого лучшего», а главное, нет такого — «решения», так что он, тот, кто спасается бегством, должен существовать именно в том мире, от которого и из-за которого он и спасается бегством. А скулить, что смотреть в глаза опасности — лишь усиливать страх, а значит, это легко может привести к ошибке, — скулеж этот не помогал, так что, после того как он согласился, что допущенная ошибка — в этом смысле — как раз и представляет собой важное средство в глубоко продуманном и, значит, действительно эффективном, скрытом от всех бегстве, — после этого он довольно скоро вынужден был признать, а признав, постоянно повторять и повторять для себя, что опасности нужно смотреть в глаза, более того, нужно прямо-таки искать опасность, нужно, так сказать, охотиться на опасность, чтобы знать: она вон там, она грозит вон оттуда, вон в том направлении нужно будет — уже нужно — ее встретить и отразить, то есть, обобщая: нужно жить, а другими словами — нужно знать, что жизнь эта маленькой кучки дерьма собачьего не стоит, ведь она не предлагает нам ничего, кроме — в какой-то точке бегства, когда придет время, — неизбежного краха — краха еще перед концом, доноса на самого себя, предательства самого себя, отказа от самого себя — или, в лучшем случае, самого конца. В защищенном месте властвовали бы страх и непонимание, в защищенном месте, здесь, снаружи, сказал он себе — и быстро обернулся, здесь и речи нет о чем-то подобном, здесь, и он вернул голову в прежнее положение, есть лишь постоянная, беспрерывная, нескончаемая готовность.
Его не готовили к тому, что когда-нибудь ему понадобится то знание, от которого сегодня зависит его жизнь, его учили совсем другому: обучали древневерхненемецкому языку, и древнеперсидскому языку, и еще латыни, и еще ивриту, потом еще мандаринскому языку и японскому эпохи Хэйан, и еще склоняли познакомиться с санскритом, и с языком пали, и с древним суахили, и с наречием чанго в Молдове, потом — причем никто не предупредил, что это ему не понадобится, — ему пришлось углубиться в Еврипида и Ксенофона, в Платона и Аристотеля, в Лао-цзы, Конфуция и Будду, потом, параллельно с ними, его усадили за Тацита, Цицерона, Горация и Вергилия, спустя какое-то время — за Руми, Данте, Шекспира, Ньютона, Эйнштейна и Толстого, после ему порядочно влетало, если он недостаточно прилежно выполнял задания по алгебре, геометрии, теории множеств, топологии, по математике под названием дискретная и вообще по аналитическому мышлению, а еще нужно было штудировать мировую историю, психологию, историю науки, дистанционную и локальную торговую бухгалтерию, антропологию, философию и логику, потом пришлось сдавать экзамены по истории права, по гражданскому и уголовному праву и, наконец, еще по истории мировой моды и даже по истории венгерского языка, но ни одна собака не учила его резать, шить, копать и забивать гвозди, сваривать, связывать и развязывать, отвязывать и привязывать одно к другому, другое к третьему, его не учили ориентироваться на местности, не учили технике выживания, никто пальцем не пошевелил, чтобы научить его сражаться без оружия, обезвреживать мины, взламывать коды, разбираться в подслушивающих устройствах, защищаться от радиации, обеспечивать безопасность онлайн-систем, не посвящали его в секреты единой теории поля, не объясняли, что такое универсальный принцип возмещения ущерба и как вообще можно уберечься от зла, так что в тот момент, когда выяснилось, что его ждет, когда он понял, что путь его будет идти из города в город, с суши на море, из дождя в засуху, из зноя в стужу, изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту и из мгновения в мгновение, — ему пришлось успеть все освоить, пока длится одна вспышка молнии, и знание это должно было появиться в его голове так же внезапно, как и знание того, что все, что ему необходимо, это не знание вовсе, а лишь случайное прозрение, вроде того, что относится к обращению с выключателем, где можно опытным путем постичь: если ты нажал на рычажок, то свет или вдруг вспыхнет, или внезапно погаснет, — потому что именно это с ним и произошло, внезапное действие рефлексов во время вспышки, и самое важное в этом было понять, пока длится одна вспышка молнии, что важнейший элемент бегства — вовсе не поиск защищенного места, для него защищенное место — это и есть опасность, потому что преследователи как раз в таком месте и будут его искать, а кроме того, в защищенном месте усиливается страх — от сознания, какая же огромная опасность подстерегает тебя снаружи, и страх этот усиливается сам по себе, сам себя раздувает, затмевая, заглушая все остальное, подталкивая тебя к абсурдным, то есть ошибочным выводам о том, что там, снаружи, на самом деле, — вот откуда берется эта самоубийственная стратегия, которая делает тебя беззащитным в защищенном месте, так что решение — в том, что защиту нужно находить не в защищенном месте, а в самой опасности, то есть снаружи, где действительно есть, — если он вообще существует, то именно там — шанс оценить опасность, грозящую ему непосредственно, почувствовать непосредственную близость опасности, и где он не в воображении представляет, какой может быть интенсивность данной опасности в данном пространстве, которое как раз и защищает его, но где он видит или, точнее, чувствует, то есть может точно определить, что именно способно навлечь на него опасность, где он может с безошибочной уверенностью сказать, откуда именно на него нападут, а значит, куда ему нужно в тот же момент метнуться, поскольку только так можно принять решение — причем тоже за микроскопическую долю секунды — относительно технических подробностей спасения, только таким образом можно выбрать самый подходящий момент и самое лучшее решение, причем он — и повторить это в данном случае отнюдь не будет излишней роскошью — должен знать, да он, собственно, и знал, что нет такого — «самого подходящего» и нет такого — «самого лучшего», а главное, нет такого — «решения», так что он, тот, кто спасается бегством, должен существовать именно в том мире, от которого и из-за которого он и спасается бегством. А скулить, что смотреть в глаза опасности — лишь усиливать страх, а значит, это легко может привести к ошибке, — скулеж этот не помогал, так что, после того как он согласился, что допущенная ошибка — в этом смысле — как раз и представляет собой важное средство в глубоко продуманном и, значит, действительно эффективном, скрытом от всех бегстве, — после этого он довольно скоро вынужден был признать, а признав, постоянно повторять и повторять для себя, что опасности нужно смотреть в глаза, более того, нужно прямо-таки искать опасность, нужно, так сказать, охотиться на опасность, чтобы знать: она вон там, она грозит вон оттуда, вон в том направлении нужно будет — уже нужно — ее встретить и отразить, то есть, обобщая: нужно жить, а другими словами — нужно знать, что жизнь эта маленькой кучки дерьма собачьего не стоит, ведь она не предлагает нам ничего, кроме — в какой-то точке бегства, когда придет время, — неизбежного краха — краха еще перед концом, доноса на самого себя, предательства самого себя, отказа от самого себя — или, в лучшем случае, самого конца. В защищенном месте властвовали бы страх и непонимание, в защищенном месте, здесь, снаружи, сказал он себе — и быстро обернулся, здесь и речи нет о чем-то подобном, здесь, и он вернул голову в прежнее положение, есть лишь постоянная, беспрерывная, нескончаемая готовность.

4. Отношение к безумию
 Само собой разумеется, что такого рода жизнь, как у него, требует напряженной сосредоточенности, причем такой, которая никогда его не отпустит, ни на мгновение не даст отвести взгляд от предмета, а будь у него на это время между двумя мгновениями, он мог бы подумать о том, что настолько безумно сосредоточенная жизнь, настолько сконцентрированное на одной-единственной точке внимание чреваты еще и риском или, скорее, вызовом, что ты сойдешь с ума от этого безумно сконцентрированного, на одной-единственной точке сфокусированного внимания, а поскольку он — субъект бегства, то ему никогда доподлинно не будет известно, перешел ли он уже ту грань, за которой он, субъект, может считаться безумным, а его бытие — безумием, и тут он мог бы даже впасть в сомнение, реально ли вообще все вокруг него, правда ли то, что он уже годы, а может, десятилетия, но уж точно месяцы, даже недели, дни, часы, минуты, мгновения находится в состоянии бегства, и мог бы задаться вопросом, погоня эта происходит в реальности или где-то еще, и сам он — действительно ли один из нас, как говорится, в данном конкретном облике, и в этом облике спасается от убийц, или он всего лишь плод фантазии, произведенный на свет чем-то совсем иным, скажем обезумевшим от безделья и комфорта разумом, — да, он точно мог бы этим заняться и обдумать этот вопрос, потому что, ну в самом деле, есть в этом что-то не слишком достоверное: имеется существо, опять же, как говорится, среди нас, которое в таком вот качестве живет своей жизнью, замкнутой между десятилетиями и мгновениями, пока его не найдут и не прикончат, и не вонзят ему нож в сердце, не задушат, стянув горло проволочным жгутом, или просто-напросто, в прямом смысле слова, не растопчут его, кованым сапогом выдавив внутренности, — все это было бы серьезным вопросом, будь на это хоть чуточку времени между двумя мгновениями, да только нет его, времени, между двумя мгновениями нет ничего, между двумя мгновениями — натянутое струной сконцентрированное бытие — сплошная, непрерывная постоянная, где уже и смысла нет говорить о мгновении, тем более — о двух мгновениях, о таких к тому же мгновениях, которые следуют друг за другом, ну не смешно ли, так что его отношение к собственному безумию лучше всего характеризуется тем, что он должен знать о нем, находясь в вечной патовой ситуации, где и он сам, и это его безумие лишь клубятся в некой полуготовой стадии, точно как он, который мог бы носить безумие в себе, как он, который воплощал бы его в себе, но не делает этого, потому что его безумие не вышло еще из сумрака, словом, словом, говорил он про себя, безумие — это вопрос, находящийся в сумраке, вопрос, на который ответ, конечно, есть, да только это — ответ, который немой дает глухому.
Само собой разумеется, что такого рода жизнь, как у него, требует напряженной сосредоточенности, причем такой, которая никогда его не отпустит, ни на мгновение не даст отвести взгляд от предмета, а будь у него на это время между двумя мгновениями, он мог бы подумать о том, что настолько безумно сосредоточенная жизнь, настолько сконцентрированное на одной-единственной точке внимание чреваты еще и риском или, скорее, вызовом, что ты сойдешь с ума от этого безумно сконцентрированного, на одной-единственной точке сфокусированного внимания, а поскольку он — субъект бегства, то ему никогда доподлинно не будет известно, перешел ли он уже ту грань, за которой он, субъект, может считаться безумным, а его бытие — безумием, и тут он мог бы даже впасть в сомнение, реально ли вообще все вокруг него, правда ли то, что он уже годы, а может, десятилетия, но уж точно месяцы, даже недели, дни, часы, минуты, мгновения находится в состоянии бегства, и мог бы задаться вопросом, погоня эта происходит в реальности или где-то еще, и сам он — действительно ли один из нас, как говорится, в данном конкретном облике, и в этом облике спасается от убийц, или он всего лишь плод фантазии, произведенный на свет чем-то совсем иным, скажем обезумевшим от безделья и комфорта разумом, — да, он точно мог бы этим заняться и обдумать этот вопрос, потому что, ну в самом деле, есть в этом что-то не слишком достоверное: имеется существо, опять же, как говорится, среди нас, которое в таком вот качестве живет своей жизнью, замкнутой между десятилетиями и мгновениями, пока его не найдут и не прикончат, и не вонзят ему нож в сердце, не задушат, стянув горло проволочным жгутом, или просто-напросто, в прямом смысле слова, не растопчут его, кованым сапогом выдавив внутренности, — все это было бы серьезным вопросом, будь на это хоть чуточку времени между двумя мгновениями, да только нет его, времени, между двумя мгновениями нет ничего, между двумя мгновениями — натянутое струной сконцентрированное бытие — сплошная, непрерывная постоянная, где уже и смысла нет говорить о мгновении, тем более — о двух мгновениях, о таких к тому же мгновениях, которые следуют друг за другом, ну не смешно ли, так что его отношение к собственному безумию лучше всего характеризуется тем, что он должен знать о нем, находясь в вечной патовой ситуации, где и он сам, и это его безумие лишь клубятся в некой полуготовой стадии, точно как он, который мог бы носить безумие в себе, как он, который воплощал бы его в себе, но не делает этого, потому что его безумие не вышло еще из сумрака, словом, словом, говорил он про себя, безумие — это вопрос, находящийся в сумраке, вопрос, на который ответ, конечно, есть, да только это — ответ, который немой дает глухому.

5. Передвижение в толпе
 Всегда искать толпу, место, где много народа, и незаметно, никому не бросаясь в глаза, как бы это сказать, интегрироваться, проще сказать, растворяться, словно он был там всегда, — так он делал, так должен делать и дальше, что, конечно, не означает, будто, стоит ему увидеть скопление людей на какой-нибудь новой станции, он тут же без памяти туда бросается, но все ж некоторым образом ему всегда приходилось, да и в дальнейшем придется поступать именно как-то так, то есть пускай не в этот момент, но в другой уж точно быть в этом скоплении, смешиваться с ним, становиться одним из множества, двигаться вместе с остальными, но постоянно осознавать, что он находится в толпе, которая для него опасна, а по этой причине еще и почувствовать сразу же, будто оказавшись в бурлящей трубе, какова внутренняя структура этой трубы, где структура эта менее плотная, и постараться сдвинуться в противоположном направлении, и ощутить, если она сгущается, и почувствовать, если она тащит вниз или вообще тащит куда-то, и тогда сместиться, сместиться оттуда в более спокойную часть, избегая видимости значительного усилия, словом, постоянно быть начеку, и всегда следовать этому методу, находится ли он на улице или в порту, или созерцает стадо туристов, сгрудившихся вокруг какой-нибудь достопримечательности, или едет в поезде или на пароходе, или стоит в очереди за едой или за водой из питьевого фонтанчика — всегда, всегда, всегда быть в толпе, и всегда даже по малейшему шевелению в ней чувствовать, не нужно ли и ему сдвинуться в какую-нибудь сторону, ничего другого в связи с этим нет, это все, что надо знать, но знать это надо всегда, и знать примерно в таком, описанном виде, вот что значит быть в толпе.
Всегда искать толпу, место, где много народа, и незаметно, никому не бросаясь в глаза, как бы это сказать, интегрироваться, проще сказать, растворяться, словно он был там всегда, — так он делал, так должен делать и дальше, что, конечно, не означает, будто, стоит ему увидеть скопление людей на какой-нибудь новой станции, он тут же без памяти туда бросается, но все ж некоторым образом ему всегда приходилось, да и в дальнейшем придется поступать именно как-то так, то есть пускай не в этот момент, но в другой уж точно быть в этом скоплении, смешиваться с ним, становиться одним из множества, двигаться вместе с остальными, но постоянно осознавать, что он находится в толпе, которая для него опасна, а по этой причине еще и почувствовать сразу же, будто оказавшись в бурлящей трубе, какова внутренняя структура этой трубы, где структура эта менее плотная, и постараться сдвинуться в противоположном направлении, и ощутить, если она сгущается, и почувствовать, если она тащит вниз или вообще тащит куда-то, и тогда сместиться, сместиться оттуда в более спокойную часть, избегая видимости значительного усилия, словом, постоянно быть начеку, и всегда следовать этому методу, находится ли он на улице или в порту, или созерцает стадо туристов, сгрудившихся вокруг какой-нибудь достопримечательности, или едет в поезде или на пароходе, или стоит в очереди за едой или за водой из питьевого фонтанчика — всегда, всегда, всегда быть в толпе, и всегда даже по малейшему шевелению в ней чувствовать, не нужно ли и ему сдвинуться в какую-нибудь сторону, ничего другого в связи с этим нет, это все, что надо знать, но знать это надо всегда, и знать примерно в таком, описанном виде, вот что значит быть в толпе.

6. Чего он не советует
 Не в том он положении, чтобы что-то кому-то советовать, не до того ему, если можно так выразиться, но будь у него время, он сказал бы, например, кое-что насчет того, как спать в состоянии бегства: никогда во время бегства не спи — как это сделать, он не может сказать, но не спи, никогда ни на мгновение не смыкай глаз, иначе ты пропал, и не потому вовсе, что тогда на тебя тут же набросятся, наброситься могут когда угодно, это не зависит от того, смежены у тебя веки или нет, но если ты это сделал, выявилась твоя слабость, твоя непригодность для бегства, а значит, и для спасения, так чего бы тогда тебе не сдаться сразу, ведь тому, кто засыпает во время бегства, думать о каком-то там бегстве вообще нет смысла, для убегающего сон как для алкоголика капля виски: это то самое, всем известное «ну только в последний разочек, капельку, и больше — никогда», такой человек мысль о бегстве пусть лучше из головы выкинет, к чертям собачьим все это, лучше сдаться, по крайней мере все будет позади, посмотри вон на косулю, ишь, паршивка, пасется, тебе ли не знать, что это вовсе не то кроткое существо из сказки, смешно сказать, но, например, эта косуля, поскольку она всех ненавидит — возможно, именно из-за сказки, сегодня уже не выяснишь, словом, честно скажу: она, сволочь такая, кусается, но речь о ней зашла не поэтому, а вот почему: ты посмотри на нее, на эту кусачую паршивку, она, если за ней погонятся, не утруждается насчет того, чтобы убежать, а прыг нет раз, прыгнет другой — потом возьмет и уляжется, и ждет, пока все закончится, ну так вот, ты тоже таков, если способен спать во время бегства, не для тебя это занятие, бегство, оставь его таким, как я, уж я-то, при всем прочем, не сплю, я не знаю, как это у меня получается, но не сплю, и я не просто не сплю, я и не смог бы заснуть, я — существо, которое неспособно спать, — сказал он, и иногда он должен был повторять это себе, когда его организм вдруг тянуло ко сну, ну да, иногда тянет, он этого не отрицает, не отрицает и в данный момент, но, строго одернув себя, он всегда преодолевал критические минуты, будет преодолевать и дальше, да, будет, и когда сначала голова падает на грудь, потом глазки закры-ы-ва-а-а-ются, — нет, нет, не спит он, да он и не может спать, и, конечно, имеет значение, что он одергивает себя, но на самом деле бодрствовать его заставляет то, что он думает, как сладострастно убийцы с ним расправились бы, догадайся они, что это можно сделать, когда он спит.
Но это не все.
Собственно говоря, есть ему тоже нельзя. Как и пить. Я объясню, сказал он себе, как всегда, словно разговаривая с кем-то, хотя он ни с кем никогда не разговаривал, только с самим собой, будто вел с самим собой вечный диалог, диалог, о котором понятия не имел, переживет он его или не переживет, поскольку, конечно, признавался он себе, случается, конечно же, иногда что-нибудь пожевать и, конечно же, пару глотков иной раз сделать, но считать это едой или питьем нельзя, потому что внимание его в такие минуты еще сильнее — если это вообще возможно — напряжено, настолько, что он и глотать-то почти не в состоянии, так что и еда, и питье для него — чистое мучение, главным образом потому, что внимание это, когда он пытается понять: пока он ест или пьет, не приближаются ли к нему с устрашающей скоростью убийцы, — словом, внимание это, собственно говоря, невозможно напрячь сильнее, чем в то время, когда он не ест и не пьет, и все-таки приходится напрячь еще сильнее, то есть сделать невозможное; этим он причиняет себе такую боль, что, стоит подумать о еде или питье, у него горло сводит, и больше он ни пить не хочет, ни есть, что, разумеется, не означает, что он больше не станет ни пить, ни есть, но должно как бы означать, что да, не станет, а главное, снова сказал он, обращаясь к воображаемому собеседнику, не советую тебе пытаться проверить это на себе, знаешь, не для тебя это дело, ты набивай себе брюхо, пей хоть залейся, а там пусть будет, что будет.
Но и это еще не все.
Это я тоже объясню, сказал он.
От всего, что хорошо, что приятно, надо держаться подальше. Хорошо быть во влажном тепле, хорошо находиться в материнской утробе! Хорошо гулять по лужайке со скошенной сорной травой, хорошо брести по скользким камням в воде какого-нибудь канала! Хорошо то, что невозможно! Хорошо то, что не осознаёшь! И то, что запретно! Потому что приятно чувствовать, как кровь течет у тебя в жилах! Потому что офигительно хорошо влететь, ворваться в море, в прибой, и хорошо без памяти, закрыв глаза, раз в жизни на полной скорости мчаться обратно! Приятно грызть резину, смолу, сырое мясо! Приятно встать на голову — и стоять так все время! И приятно по сырой ароматной траве скатиться под откос! И приятно мять в пальцах что-нибудь мягкое, как плоть. И хорошо трахаться, ух, до чего здорово трахаться, хотя сам не понимаешь почему! И хорошо то, что плохо! А хорошо — тоже хорошо!..
ХОРОШО-ВСЁ!
А мне всё — не нужно, мне ничего не нужно, сказал он, из всего этого хорошего и приятного мне не нужно совсем ничего, ведь стоит мне только подумать о чем-нибудь хорошем, и всё, мне конец, меня тут же схватят, или уже схватили, как схватят и тебя, если ты вздумаешь убегать от своих убийц, не обладая способностью сказать «нет» всему, что хорошо и приятно. Ибо хорошее и приятное — самая коварная из ловушек.
Но это уж я точно должен объяснить.
Хорошее, приятное — не моральная категория, хорошее — это обман, который делает тебя прозрачным, упрощает и, упрощая, делает тебя уязвимым, ибо лишает тебя бдительности: оно побуждает тебя поверить, что если находишься в чем-то хорошем, то попал в некое вечное пространство, потому что если ты в хорошем, оно шепчет: раз так. то тебе уже нечего делать, у тебя нет никакого занятия, достаточно сесть удобно, развалиться, вольно раскинуть ноги и руки, похрустеть костями, откинуться, потому что в хорошем перестает течь время, хорошее изымает тебя из времени, словно мать пришла в школу и отпросила тебя с уроков, и более нет судорожного страха, что завтра надо отвечать, и писать контрольную, и вообще сидеть за партой и дрожать, как бы тебя не вызвали, а вообще быть хорошим — усыпляет, внушая, что нет никакой погони, ты спокойно, прогулочным шагом можешь пойти к реке, на бережок, выбрать себе в тихом месте уютные мостки, забросить новую удочку с крючком Korda Kaptor, и светит солнышко, или идет ласковый дождичек, и травка растет, и ты слышишь, как она растет, но ты в этом не участвуешь, ты не участвуешь во всеобщем рвении расти, наливаться соком, краснеть, поспевать, потом повзрослеть, потом постареть, женщине отращивать усы, мужчине — тяжелые мягко-упругие яйца, потому что над тобой тогда уже никто и ничто не будет довлеть, так ты думаешь, когда находишься в чем-то хорошем, хотя, собственно говоря, самое опасное то, что в таком состоянии ты понятия не имеешь ни о какой погоне, а если и думаешь лениво, нехотя: да-а, преследователи, ну и пусть — они просто тонут в дымке, в тумане, когда тебе хорошо, убийцы твои просто-напросто не поддаются отождествлению, их свойства не поддаются распознаванию, определить их природу, расположение, уязвимость или неуязвимость совершенно невозможно, так что не знаю даже, сказал он себе, что страшнее: невозможность распознать убийц или все, что хорошо.
Не в том он положении, чтобы что-то кому-то советовать, не до того ему, если можно так выразиться, но будь у него время, он сказал бы, например, кое-что насчет того, как спать в состоянии бегства: никогда во время бегства не спи — как это сделать, он не может сказать, но не спи, никогда ни на мгновение не смыкай глаз, иначе ты пропал, и не потому вовсе, что тогда на тебя тут же набросятся, наброситься могут когда угодно, это не зависит от того, смежены у тебя веки или нет, но если ты это сделал, выявилась твоя слабость, твоя непригодность для бегства, а значит, и для спасения, так чего бы тогда тебе не сдаться сразу, ведь тому, кто засыпает во время бегства, думать о каком-то там бегстве вообще нет смысла, для убегающего сон как для алкоголика капля виски: это то самое, всем известное «ну только в последний разочек, капельку, и больше — никогда», такой человек мысль о бегстве пусть лучше из головы выкинет, к чертям собачьим все это, лучше сдаться, по крайней мере все будет позади, посмотри вон на косулю, ишь, паршивка, пасется, тебе ли не знать, что это вовсе не то кроткое существо из сказки, смешно сказать, но, например, эта косуля, поскольку она всех ненавидит — возможно, именно из-за сказки, сегодня уже не выяснишь, словом, честно скажу: она, сволочь такая, кусается, но речь о ней зашла не поэтому, а вот почему: ты посмотри на нее, на эту кусачую паршивку, она, если за ней погонятся, не утруждается насчет того, чтобы убежать, а прыг нет раз, прыгнет другой — потом возьмет и уляжется, и ждет, пока все закончится, ну так вот, ты тоже таков, если способен спать во время бегства, не для тебя это занятие, бегство, оставь его таким, как я, уж я-то, при всем прочем, не сплю, я не знаю, как это у меня получается, но не сплю, и я не просто не сплю, я и не смог бы заснуть, я — существо, которое неспособно спать, — сказал он, и иногда он должен был повторять это себе, когда его организм вдруг тянуло ко сну, ну да, иногда тянет, он этого не отрицает, не отрицает и в данный момент, но, строго одернув себя, он всегда преодолевал критические минуты, будет преодолевать и дальше, да, будет, и когда сначала голова падает на грудь, потом глазки закры-ы-ва-а-а-ются, — нет, нет, не спит он, да он и не может спать, и, конечно, имеет значение, что он одергивает себя, но на самом деле бодрствовать его заставляет то, что он думает, как сладострастно убийцы с ним расправились бы, догадайся они, что это можно сделать, когда он спит.
Но это не все.
Собственно говоря, есть ему тоже нельзя. Как и пить. Я объясню, сказал он себе, как всегда, словно разговаривая с кем-то, хотя он ни с кем никогда не разговаривал, только с самим собой, будто вел с самим собой вечный диалог, диалог, о котором понятия не имел, переживет он его или не переживет, поскольку, конечно, признавался он себе, случается, конечно же, иногда что-нибудь пожевать и, конечно же, пару глотков иной раз сделать, но считать это едой или питьем нельзя, потому что внимание его в такие минуты еще сильнее — если это вообще возможно — напряжено, настолько, что он и глотать-то почти не в состоянии, так что и еда, и питье для него — чистое мучение, главным образом потому, что внимание это, когда он пытается понять: пока он ест или пьет, не приближаются ли к нему с устрашающей скоростью убийцы, — словом, внимание это, собственно говоря, невозможно напрячь сильнее, чем в то время, когда он не ест и не пьет, и все-таки приходится напрячь еще сильнее, то есть сделать невозможное; этим он причиняет себе такую боль, что, стоит подумать о еде или питье, у него горло сводит, и больше он ни пить не хочет, ни есть, что, разумеется, не означает, что он больше не станет ни пить, ни есть, но должно как бы означать, что да, не станет, а главное, снова сказал он, обращаясь к воображаемому собеседнику, не советую тебе пытаться проверить это на себе, знаешь, не для тебя это дело, ты набивай себе брюхо, пей хоть залейся, а там пусть будет, что будет.
Но и это еще не все.
Это я тоже объясню, сказал он.
От всего, что хорошо, что приятно, надо держаться подальше. Хорошо быть во влажном тепле, хорошо находиться в материнской утробе! Хорошо гулять по лужайке со скошенной сорной травой, хорошо брести по скользким камням в воде какого-нибудь канала! Хорошо то, что невозможно! Хорошо то, что не осознаёшь! И то, что запретно! Потому что приятно чувствовать, как кровь течет у тебя в жилах! Потому что офигительно хорошо влететь, ворваться в море, в прибой, и хорошо без памяти, закрыв глаза, раз в жизни на полной скорости мчаться обратно! Приятно грызть резину, смолу, сырое мясо! Приятно встать на голову — и стоять так все время! И приятно по сырой ароматной траве скатиться под откос! И приятно мять в пальцах что-нибудь мягкое, как плоть. И хорошо трахаться, ух, до чего здорово трахаться, хотя сам не понимаешь почему! И хорошо то, что плохо! А хорошо — тоже хорошо!..
ХОРОШО-ВСЁ!
А мне всё — не нужно, мне ничего не нужно, сказал он, из всего этого хорошего и приятного мне не нужно совсем ничего, ведь стоит мне только подумать о чем-нибудь хорошем, и всё, мне конец, меня тут же схватят, или уже схватили, как схватят и тебя, если ты вздумаешь убегать от своих убийц, не обладая способностью сказать «нет» всему, что хорошо и приятно. Ибо хорошее и приятное — самая коварная из ловушек.
Но это уж я точно должен объяснить.
Хорошее, приятное — не моральная категория, хорошее — это обман, который делает тебя прозрачным, упрощает и, упрощая, делает тебя уязвимым, ибо лишает тебя бдительности: оно побуждает тебя поверить, что если находишься в чем-то хорошем, то попал в некое вечное пространство, потому что если ты в хорошем, оно шепчет: раз так. то тебе уже нечего делать, у тебя нет никакого занятия, достаточно сесть удобно, развалиться, вольно раскинуть ноги и руки, похрустеть костями, откинуться, потому что в хорошем перестает течь время, хорошее изымает тебя из времени, словно мать пришла в школу и отпросила тебя с уроков, и более нет судорожного страха, что завтра надо отвечать, и писать контрольную, и вообще сидеть за партой и дрожать, как бы тебя не вызвали, а вообще быть хорошим — усыпляет, внушая, что нет никакой погони, ты спокойно, прогулочным шагом можешь пойти к реке, на бережок, выбрать себе в тихом месте уютные мостки, забросить новую удочку с крючком Korda Kaptor, и светит солнышко, или идет ласковый дождичек, и травка растет, и ты слышишь, как она растет, но ты в этом не участвуешь, ты не участвуешь во всеобщем рвении расти, наливаться соком, краснеть, поспевать, потом повзрослеть, потом постареть, женщине отращивать усы, мужчине — тяжелые мягко-упругие яйца, потому что над тобой тогда уже никто и ничто не будет довлеть, так ты думаешь, когда находишься в чем-то хорошем, хотя, собственно говоря, самое опасное то, что в таком состоянии ты понятия не имеешь ни о какой погоне, а если и думаешь лениво, нехотя: да-а, преследователи, ну и пусть — они просто тонут в дымке, в тумане, когда тебе хорошо, убийцы твои просто-напросто не поддаются отождествлению, их свойства не поддаются распознаванию, определить их природу, расположение, уязвимость или неуязвимость совершенно невозможно, так что не знаю даже, сказал он себе, что страшнее: невозможность распознать убийц или все, что хорошо.

7. Приспособление к местности
 У него нет возможности держаться так, чтобы ни с кем не вступать в разговор, но если обойтись без этого нельзя, то нужно быть крайне осторожным. Избегать ответов, которые выглядят очень уж уклончивыми, и тем не менее все, что бы он ни сказал, должно быть максимально нейтральным: да, отвечать ожиданиям, не идти вразрез с местными обычаями, словом, быть само собой разумеющимся, вроде шороха ветра, или шелеста дождя, или сообщения о том, что корчма, должно быть, открыта, потому что уже десять, или девять, или шесть вечера. Тут нужны фразы, которые и значат что-то, и в то же время ничего не значат, фразы, которые позволяют избежать опасности, связанной с попытками угадать, что представляет собой его личность, потому что это самое рискованное — когда приходится говорить с кем-то, когда нужно сообщить о себе нечто большее, чем ничего, и в то же время меньшее, чем то, что он на самом деле собой представляет, а в то же время на небольшой территории, как, скажем, эта, от Пулы по побережью до Опатии или до Риеки, эти фразы не должны содержать в себе противоречий, то есть в общем и целом гармонично сочетаться друг с другом, ведь не может же он в Пуле сказать, что он из Шотландии, если в Опатии или в Риеке говорил, что из Норвегии, так что следует быть очень-очень последовательным, и что еще крайне важно, нигде нельзя держаться совсем уж в стороне от других, даже более того, в соответствии со своей тактикой он должен не только легко становиться частью какого-нибудь случайного скопления людей, но и при случае уметь естественно войти в какую-нибудь небольшую компанию, какая, например, возникает вокруг человека, сидящего на скамейке, или во время еды — в его случае еда занимает исключительно мало времени, — или у фонтанчика для питья, если ты плохо выбрал время и, пока пьешь — опять же, несколько глотков, и всё, — кто-нибудь встанет у тебя за спиной, как бы ожидая своей очереди, и тогда не можешь же ты просто убежать оттуда, надо дать другому немножко времени, чтобы, если он хочет что-то сказать, пусть скажет, и дать ответ максимально нейтральный, но все же подобающий ситуации, например, если человек скажет, уф, и пекло же сегодня, нелегко, поди, с вашими-то ногами, он не может оставить это без ответа, но ответ должен быть таким, чтобы не дать человеку повода задать следующий вопрос, то есть ответить надо как-нибудь в таком роде, мол, да уж, нелегко, это точно, и всё, и ни слова о том, что же все-таки у него с ногами, что из-за травмы колена и повыше него он с юных лет прихрамывает, об этом ни слова, потом, чуть выждав, пока капли упадут с подбородка, отодвинуться в сторону, давая место другому, но не слишком быстро, не слишком торопливо, и еще чуть-чуть выждать, пока тот наклонится к фонтанчику, и уйти, лишь когда видно будет, что тот, другой, закончил пить и, может быть, готовится спросить насчет ног, ну, тут как раз самое лучшее удалиться, да, вот так надо поступать, сказал он, так он и поступал каждый раз и действительно ни разу ничем не привлек к себе внимания, просто люди не замечали, что он тоже тут, и настолько не замечали, что если бы кто-то спросил, не видали ли тут такого-то, то с большой долей вероятности все. кого судьба свела в этом месте, ответили бы: нет. И, разумеется, в очень большой беде он оказался бы, если хоть раз — один-единственный раз хотя бы — он по какой-то причине захотел бы ответить на вопрос, откуда он прибыл, потому что он сам не знал откуда, потому что у него вообще не было воспоминаний, ведь ничто, ничто из того, что он там оставил, не имело значения, прошлое для него не существовало, существовало лишь то, что происходило в данный момент, он был пленником мгновения и врывался в это мгновение, но в такое мгновение, у которого продолжения нет, как нет и более ранней версии, так он сказал бы себе, если бы между двумя мгновениями у него было время подумать о том, что ему ни прошлое, ни будущее не нужны, ведь ни того, ни другого не существует.
И опять же: не было у него на это времени между двумя мгновениями.
К тому же и двух мгновений не было.
У него нет возможности держаться так, чтобы ни с кем не вступать в разговор, но если обойтись без этого нельзя, то нужно быть крайне осторожным. Избегать ответов, которые выглядят очень уж уклончивыми, и тем не менее все, что бы он ни сказал, должно быть максимально нейтральным: да, отвечать ожиданиям, не идти вразрез с местными обычаями, словом, быть само собой разумеющимся, вроде шороха ветра, или шелеста дождя, или сообщения о том, что корчма, должно быть, открыта, потому что уже десять, или девять, или шесть вечера. Тут нужны фразы, которые и значат что-то, и в то же время ничего не значат, фразы, которые позволяют избежать опасности, связанной с попытками угадать, что представляет собой его личность, потому что это самое рискованное — когда приходится говорить с кем-то, когда нужно сообщить о себе нечто большее, чем ничего, и в то же время меньшее, чем то, что он на самом деле собой представляет, а в то же время на небольшой территории, как, скажем, эта, от Пулы по побережью до Опатии или до Риеки, эти фразы не должны содержать в себе противоречий, то есть в общем и целом гармонично сочетаться друг с другом, ведь не может же он в Пуле сказать, что он из Шотландии, если в Опатии или в Риеке говорил, что из Норвегии, так что следует быть очень-очень последовательным, и что еще крайне важно, нигде нельзя держаться совсем уж в стороне от других, даже более того, в соответствии со своей тактикой он должен не только легко становиться частью какого-нибудь случайного скопления людей, но и при случае уметь естественно войти в какую-нибудь небольшую компанию, какая, например, возникает вокруг человека, сидящего на скамейке, или во время еды — в его случае еда занимает исключительно мало времени, — или у фонтанчика для питья, если ты плохо выбрал время и, пока пьешь — опять же, несколько глотков, и всё, — кто-нибудь встанет у тебя за спиной, как бы ожидая своей очереди, и тогда не можешь же ты просто убежать оттуда, надо дать другому немножко времени, чтобы, если он хочет что-то сказать, пусть скажет, и дать ответ максимально нейтральный, но все же подобающий ситуации, например, если человек скажет, уф, и пекло же сегодня, нелегко, поди, с вашими-то ногами, он не может оставить это без ответа, но ответ должен быть таким, чтобы не дать человеку повода задать следующий вопрос, то есть ответить надо как-нибудь в таком роде, мол, да уж, нелегко, это точно, и всё, и ни слова о том, что же все-таки у него с ногами, что из-за травмы колена и повыше него он с юных лет прихрамывает, об этом ни слова, потом, чуть выждав, пока капли упадут с подбородка, отодвинуться в сторону, давая место другому, но не слишком быстро, не слишком торопливо, и еще чуть-чуть выждать, пока тот наклонится к фонтанчику, и уйти, лишь когда видно будет, что тот, другой, закончил пить и, может быть, готовится спросить насчет ног, ну, тут как раз самое лучшее удалиться, да, вот так надо поступать, сказал он, так он и поступал каждый раз и действительно ни разу ничем не привлек к себе внимания, просто люди не замечали, что он тоже тут, и настолько не замечали, что если бы кто-то спросил, не видали ли тут такого-то, то с большой долей вероятности все. кого судьба свела в этом месте, ответили бы: нет. И, разумеется, в очень большой беде он оказался бы, если хоть раз — один-единственный раз хотя бы — он по какой-то причине захотел бы ответить на вопрос, откуда он прибыл, потому что он сам не знал откуда, потому что у него вообще не было воспоминаний, ведь ничто, ничто из того, что он там оставил, не имело значения, прошлое для него не существовало, существовало лишь то, что происходило в данный момент, он был пленником мгновения и врывался в это мгновение, но в такое мгновение, у которого продолжения нет, как нет и более ранней версии, так он сказал бы себе, если бы между двумя мгновениями у него было время подумать о том, что ему ни прошлое, ни будущее не нужны, ведь ни того, ни другого не существует.
И опять же: не было у него на это времени между двумя мгновениями.
К тому же и двух мгновений не было.

8. О смысле погони и убийства
 Были ли они просто охотниками за головами или теми, кого гонит за добычей страсть, невозможно было решить, да он и не смел по-настоящему вдуматься ни в один из этих вариантов, но будь у него возможность выбирать, то с охотниками, пожалуй, он смирился бы все же скорее, потому что больше всего его страшило, когда он представлял, что они, те, кто за ним гонится, вообще не чувствуют ничего ни сейчас, в роли преследователей, ни потом, когда выследят, обступят его со всех сторон и дубинками, с которыми они не расстаются, просто забьют до смерти, — да, эту настойчивость, это упорство, которое их вело, пока они, одновременно с ним, целеустремленно двигались к своей цели, он знал прекрасно, потому что оно, это упорство, могло бы быть зеркальным отражением его собственного отчаянного упорства, которое не слабело, а, наоборот, крепло в нем, когда выяснилось, что бегство его будет длиться не пару дней, а недели, может быть, месяцы, даже годы, десятилетия, — правда, он, несмотря ни на что, не любил такого рода параллели, так как они легко могли привести к ложному представлению, будто — если смотреть с высот той несуществующей Высшей Гармонии — их погоня и его бегство представляют собой всего лишь две проекции одного процесса, а ему это, то есть такое представление, не просто не нравилось, оно вызывало в нем омерзение, так что — нет уж, увольте, твердо говорил он про себя, его бегство — не зеркальное отражение того, что дела ют убийцы, нет в этом никакого равновесия, невозможно в данном случае допустить, будто они взаимосвязаны, поскольку в таком допущении было бы нечто гнусное, глубоко аморальное, аморальное в том смысле, что убийца и жертва становятся в один ряд, будто они жить друг без друга не могут, вот почему он всегда презирал и сегодня презирает, подумалось ему как-то ночью в Заре, математику и все, в чем есть хоть толика математики, ведь математика, продолжал он развивать про себя эту мысль, не допускает, да тут и посильнее можно сказать, не признаёт универсальной реальности моральных вопросов, она считает, что у морали есть свое место, но не здесь, не среди нас, тут ей места нет, так что идите вы со своей моралью, что называется, в жопу, а допускать такие штуки, как мораль, в наше пространство, где царствуют уравнения, формулы, анализы, экстраполяции, всякие аксиомы, допускать мораль в наш образ мышления мы не позволим, то есть у нее, у математики, любое, пускай самое жуткое и гнусное утверждение спокойно может сидеть и даже дремать в чем угодно, даже в простейшем действии сложения, то есть один плюс один равно два, и это может быть так страшно, что ничего страшнее и представить нельзя, и стоит только подумать о таком действии, как его начинает тошнить, потому что тогда он должен принять, что, независимо от чего бы то ни было, можно сказать абсолютно свободно: допускается, что такое этот (это, эта) один и что такое этот (это, эта) другой, не говоря уж о результате, о двойке, о так называемом результате, зловоние которого исходит от любого подобного или сколь угодно более сложного математического выражения, пускай оно, это выражение, сияет стерильной чистотой, так что, имея все это в виду, дело обстоит так, сказал он себе, что бегство свое он никогда не станет определять как функцию от того, что значит, когда посягают на его жизнь, когда ему нужно эту жизнь спасать, нет, он исходит из того, что его жизнь, его мир — это абсолютно замкнутый в себе, особый мир, как и мир его преследователей, если вообще можно назвать миром существование таких подлых тварей, как его преследователи, то есть в конечном счете он хочет сказать, что если у его бегства есть цель, то у преследователей его он — не цель, а всего лишь ее отсутствие, и тогда совершенно не важно, о чем идет речь, об охоте за головами или об одержимой погоне за добычей. Отсутствие цели.
Были ли они просто охотниками за головами или теми, кого гонит за добычей страсть, невозможно было решить, да он и не смел по-настоящему вдуматься ни в один из этих вариантов, но будь у него возможность выбирать, то с охотниками, пожалуй, он смирился бы все же скорее, потому что больше всего его страшило, когда он представлял, что они, те, кто за ним гонится, вообще не чувствуют ничего ни сейчас, в роли преследователей, ни потом, когда выследят, обступят его со всех сторон и дубинками, с которыми они не расстаются, просто забьют до смерти, — да, эту настойчивость, это упорство, которое их вело, пока они, одновременно с ним, целеустремленно двигались к своей цели, он знал прекрасно, потому что оно, это упорство, могло бы быть зеркальным отражением его собственного отчаянного упорства, которое не слабело, а, наоборот, крепло в нем, когда выяснилось, что бегство его будет длиться не пару дней, а недели, может быть, месяцы, даже годы, десятилетия, — правда, он, несмотря ни на что, не любил такого рода параллели, так как они легко могли привести к ложному представлению, будто — если смотреть с высот той несуществующей Высшей Гармонии — их погоня и его бегство представляют собой всего лишь две проекции одного процесса, а ему это, то есть такое представление, не просто не нравилось, оно вызывало в нем омерзение, так что — нет уж, увольте, твердо говорил он про себя, его бегство — не зеркальное отражение того, что дела ют убийцы, нет в этом никакого равновесия, невозможно в данном случае допустить, будто они взаимосвязаны, поскольку в таком допущении было бы нечто гнусное, глубоко аморальное, аморальное в том смысле, что убийца и жертва становятся в один ряд, будто они жить друг без друга не могут, вот почему он всегда презирал и сегодня презирает, подумалось ему как-то ночью в Заре, математику и все, в чем есть хоть толика математики, ведь математика, продолжал он развивать про себя эту мысль, не допускает, да тут и посильнее можно сказать, не признаёт универсальной реальности моральных вопросов, она считает, что у морали есть свое место, но не здесь, не среди нас, тут ей места нет, так что идите вы со своей моралью, что называется, в жопу, а допускать такие штуки, как мораль, в наше пространство, где царствуют уравнения, формулы, анализы, экстраполяции, всякие аксиомы, допускать мораль в наш образ мышления мы не позволим, то есть у нее, у математики, любое, пускай самое жуткое и гнусное утверждение спокойно может сидеть и даже дремать в чем угодно, даже в простейшем действии сложения, то есть один плюс один равно два, и это может быть так страшно, что ничего страшнее и представить нельзя, и стоит только подумать о таком действии, как его начинает тошнить, потому что тогда он должен принять, что, независимо от чего бы то ни было, можно сказать абсолютно свободно: допускается, что такое этот (это, эта) один и что такое этот (это, эта) другой, не говоря уж о результате, о двойке, о так называемом результате, зловоние которого исходит от любого подобного или сколь угодно более сложного математического выражения, пускай оно, это выражение, сияет стерильной чистотой, так что, имея все это в виду, дело обстоит так, сказал он себе, что бегство свое он никогда не станет определять как функцию от того, что значит, когда посягают на его жизнь, когда ему нужно эту жизнь спасать, нет, он исходит из того, что его жизнь, его мир — это абсолютно замкнутый в себе, особый мир, как и мир его преследователей, если вообще можно назвать миром существование таких подлых тварей, как его преследователи, то есть в конечном счете он хочет сказать, что если у его бегства есть цель, то у преследователей его он — не цель, а всего лишь ее отсутствие, и тогда совершенно не важно, о чем идет речь, об охоте за головами или об одержимой погоне за добычей. Отсутствие цели.

9. Жизнь
 Никогда не было у него такого чувства, что его жизнь — нечто такое, что принадлежит только ему, что это такое убежище, такое дупло, куда никто не может попасть, куда даже заглянуть никто не может, как в плотно занавешенное окно, — но если по правде, то он никогда и не задумывался над тем, каково это, если что-то принадлежит только тебе, он и не знал, что есть нечто такое, что является его жизнью, он видел, что у других это тоже есть, но оно тоже не жизнь, другие точно так же, как он, не располагают чем-то таким, что можно назвать жизнью, чем-то таким, что принадлежит только им, чего никто не может у них, как говорится, отнять, а, нет, если бы кто-нибудь у него спросил: ну скажи все-таки, нет, ты все-таки скажи, что ты об этом думаешь, он ответил бы: ничего такого, что называется жизнью, вообще нет, а те, кто пользуется этим словом к месту и не к месту, почему-то считают, что у слова этого, то есть у слова «жизнь», есть смысл, и даже большой смысл, хотя, может, мы и не знаем, в чем этот большой смысл, раньше думали так, нынче этак, но что есть у нее большой смысл, у жизни, говорят они, это чистая правда, и думают, что этим совершенно неприемлемым утверждением или даже, скорее, этим громким заявлением, которое они еще и готовы подкрепить, стукнув кулаком по столу, — думают, что на этом вопрос и решен, а ведь он совсем и не решен, потому что не так все обстоит, он, конечно, не будет повторять чепуху, что и само слово это, «смысл», ничего не значит, да нет, значит, но чтобы в чем-то был смысл?! — а, бросьте!; так же и с жизнью: значение у слова тоже есть, а смысл?! — да полно! — и так можно продолжать долго, с целями та же петрушка, там мы видим такое же безответственное, а значит, недопустимое преувеличение, к тому же ведущее к огромному и, как обязательно выяснится, непоправимому недоразумению, ведь конечной цели ни у чего нет, потому что и цели ни у чего нет, есть лишь элемент бытия, частица бытия, которая и сама по себе есть не что иное, как процесс, вот он и странствует с процесса на процесс, точнее, проваливается из одного процесса в другой, чтобы метаться там, пока не провалится в следующий процесс, то есть у него все сплошь — не цели, а следствия, каждое из которых — результат хаотического движения вовлеченных в процесс, случайно захваченных элементов, это и называют — ошибочно! ошибочно! — целью, хотя это всего лишь следствие, которое один какой-то элемент, из множества которых состоит процесс, постоянно должен переносить, быть страдательным объектом, и это состояние, состояние страдательного объекта — если говорить совсем точно, страдание объекта — и есть жизнь, так что у жизни как таковой, жизни как чего-то взятого само по себе, нет вообще ничего, лишь у внутренних процессов в ней есть что-то, что вспыхивает, подобно искре, и тут же растворяется, гаснет в безумной сутолоке следствий, вот только не надо глупостей про всякое там роковое стечение обстоятельств и все такое, тут все проще, но и сложнее, тут всегда имеет место перед процессом стоящее, не поддающееся расчету следствие, потому что такого, чтобы следствие шло после процесса, будьте уверены, тоже нет, нет такого, чтобы следствие как бы вытекало из прошлого и указывало на него, но нет и такого, чтобы оно стояло за процессом, указывало бы в будущее, за пределы того, чем является взаимодействие двух сущностей, в общем, только вынужденность следствий, вот и все, что есть — во всяком случае, в данное мгновение, за которым следующее мгновение, естественно, следовать никак не должно, да и не может, потому что его, данного мгновения, уже и след простыл, нет мгновения, и всё тут, вот он, со своей стороны, не мог, например, камень отличить от ручья, а ручей от форели, не говоря уж о том, что форель эта иногда выпрыгивает из воды, тогда как бы мог он сказать, что это и есть жизнь, ну уж нет, и вообще он не очень-то ловко управляется со словами, которые определяют что-нибудь вообще, для него не существует такого, что выходило бы за пределы возникшей как раз ситуации, да и не очень-то у него было время размышлять над этим, а главное, охоты не было, не любил он этого, впрочем, нет, не в том дело, что не любил, он презирал вопросы, потому что — и повторять это готов здесь бесконечно — презирал и ответы, для него существует только что-то необдуманное, предпринятое не потому, что так было решено, а просто чтобы сбить с толку преследователей, — словом, действие и страх, страх от непонимания, почему, собственно, надо было отойти в сторону, почему надо было просто быть более проворным, чем те, кто за ним гонится, чтобы догнать и облить бензином, и, ухмыляясь, но и с некоторой досадой, что так долго все это продолжалось, пока им удалось его схватить, медленно-медленно подносить к его телу горящую зажигалку, так что он мог бы даже сказать, если бы его принудили, что, когда ты стоишь, облитый бензином, стоишь, парализованный, в облаке бензиновой вони и видишь, как приближается к тебе огонек зажигалки, и ты еще успеваешь почувствовать, как в одном взрыве или, скорее, ударе, чуть оторвавшись от земли, распадается на частицы маленькое твое тело, и всё — ну вот, и пускай спрашивают, что это такое — жизнь.
Никогда не было у него такого чувства, что его жизнь — нечто такое, что принадлежит только ему, что это такое убежище, такое дупло, куда никто не может попасть, куда даже заглянуть никто не может, как в плотно занавешенное окно, — но если по правде, то он никогда и не задумывался над тем, каково это, если что-то принадлежит только тебе, он и не знал, что есть нечто такое, что является его жизнью, он видел, что у других это тоже есть, но оно тоже не жизнь, другие точно так же, как он, не располагают чем-то таким, что можно назвать жизнью, чем-то таким, что принадлежит только им, чего никто не может у них, как говорится, отнять, а, нет, если бы кто-нибудь у него спросил: ну скажи все-таки, нет, ты все-таки скажи, что ты об этом думаешь, он ответил бы: ничего такого, что называется жизнью, вообще нет, а те, кто пользуется этим словом к месту и не к месту, почему-то считают, что у слова этого, то есть у слова «жизнь», есть смысл, и даже большой смысл, хотя, может, мы и не знаем, в чем этот большой смысл, раньше думали так, нынче этак, но что есть у нее большой смысл, у жизни, говорят они, это чистая правда, и думают, что этим совершенно неприемлемым утверждением или даже, скорее, этим громким заявлением, которое они еще и готовы подкрепить, стукнув кулаком по столу, — думают, что на этом вопрос и решен, а ведь он совсем и не решен, потому что не так все обстоит, он, конечно, не будет повторять чепуху, что и само слово это, «смысл», ничего не значит, да нет, значит, но чтобы в чем-то был смысл?! — а, бросьте!; так же и с жизнью: значение у слова тоже есть, а смысл?! — да полно! — и так можно продолжать долго, с целями та же петрушка, там мы видим такое же безответственное, а значит, недопустимое преувеличение, к тому же ведущее к огромному и, как обязательно выяснится, непоправимому недоразумению, ведь конечной цели ни у чего нет, потому что и цели ни у чего нет, есть лишь элемент бытия, частица бытия, которая и сама по себе есть не что иное, как процесс, вот он и странствует с процесса на процесс, точнее, проваливается из одного процесса в другой, чтобы метаться там, пока не провалится в следующий процесс, то есть у него все сплошь — не цели, а следствия, каждое из которых — результат хаотического движения вовлеченных в процесс, случайно захваченных элементов, это и называют — ошибочно! ошибочно! — целью, хотя это всего лишь следствие, которое один какой-то элемент, из множества которых состоит процесс, постоянно должен переносить, быть страдательным объектом, и это состояние, состояние страдательного объекта — если говорить совсем точно, страдание объекта — и есть жизнь, так что у жизни как таковой, жизни как чего-то взятого само по себе, нет вообще ничего, лишь у внутренних процессов в ней есть что-то, что вспыхивает, подобно искре, и тут же растворяется, гаснет в безумной сутолоке следствий, вот только не надо глупостей про всякое там роковое стечение обстоятельств и все такое, тут все проще, но и сложнее, тут всегда имеет место перед процессом стоящее, не поддающееся расчету следствие, потому что такого, чтобы следствие шло после процесса, будьте уверены, тоже нет, нет такого, чтобы следствие как бы вытекало из прошлого и указывало на него, но нет и такого, чтобы оно стояло за процессом, указывало бы в будущее, за пределы того, чем является взаимодействие двух сущностей, в общем, только вынужденность следствий, вот и все, что есть — во всяком случае, в данное мгновение, за которым следующее мгновение, естественно, следовать никак не должно, да и не может, потому что его, данного мгновения, уже и след простыл, нет мгновения, и всё тут, вот он, со своей стороны, не мог, например, камень отличить от ручья, а ручей от форели, не говоря уж о том, что форель эта иногда выпрыгивает из воды, тогда как бы мог он сказать, что это и есть жизнь, ну уж нет, и вообще он не очень-то ловко управляется со словами, которые определяют что-нибудь вообще, для него не существует такого, что выходило бы за пределы возникшей как раз ситуации, да и не очень-то у него было время размышлять над этим, а главное, охоты не было, не любил он этого, впрочем, нет, не в том дело, что не любил, он презирал вопросы, потому что — и повторять это готов здесь бесконечно — презирал и ответы, для него существует только что-то необдуманное, предпринятое не потому, что так было решено, а просто чтобы сбить с толку преследователей, — словом, действие и страх, страх от непонимания, почему, собственно, надо было отойти в сторону, почему надо было просто быть более проворным, чем те, кто за ним гонится, чтобы догнать и облить бензином, и, ухмыляясь, но и с некоторой досадой, что так долго все это продолжалось, пока им удалось его схватить, медленно-медленно подносить к его телу горящую зажигалку, так что он мог бы даже сказать, если бы его принудили, что, когда ты стоишь, облитый бензином, стоишь, парализованный, в облаке бензиновой вони и видишь, как приближается к тебе огонек зажигалки, и ты еще успеваешь почувствовать, как в одном взрыве или, скорее, ударе, чуть оторвавшись от земли, распадается на частицы маленькое твое тело, и всё — ну вот, и пускай спрашивают, что это такое — жизнь.

10. Выбор пути
 Если ты задумываешься, если размышляешь что и как — ты пропал, вот о чем он думал, когда размышлял о том, что не будет думать, не будет взвешивать, в каком на правлении, как они считают, он двинется с наименьшей вероятностью, — по нему, так пускай думают, что его потянет в сторону дома, ему все равно было, что и кто об этом думает, для него одно лишь имело значение — как; вообще же он мог полагаться лишь на моментальное, случайное, то есть абсолютно необдуманное решение, на внезапный, словно скачок, порыв в произвольном направлении, порыв, в котором не было, нет и не будет ни взвешивания шансов, ни размышлений куда, почему и так далее, просто он вдруг сорвался с места и теперь мчится, ползет, совершает перебежку, крадется куда-то, сколько хватает сил, так как почувствовал, что за ним, по его следам, идут, бегут, гонятся, и не просто гонятся, страшнее, куда страшнее сознавать, что речь не просто о том, что гонятся, а о том, что хотят убить, тут уж не до того, чтобы думать, подумал он затем, тут уж не до того, чтобы взвешивать шансы, и не только потому, скажем даже, главным образом не потому, что на это нет времени, а потому, что непонятным дляних, нелогичным поступком он перевертывает, перемешивает то, что в них, в преследователях, в такой ситуации происходит: убийца всегда действует по плану, убийца всегда последователен, он предполагает, причем взвешенно предполагает, что тот, кого он должен убить, потому-то и потому-то пойдет туда-то или туда-то, но если тот идет совсем в другую сторону, убийца не знает, как ему быть, ну тут как раз так и вышло: когда началась эта жуткая погоня, он сам не знал, что делает, поэтому все так и получилось, а построй он какой-нибудь план, ему был бы конец, потому что, каким бы он ни был, этот план, в нем была бы какая-то логика, какое-то решение, или хорошее, или плохое, решение направиться туда-то или туда-то, спрятаться там-то или там-то, да только он бросился бежать без памяти, и потому у него и получилось добраться до этого места, тогда как он, конечно, не мог знать, да и в самом деле не знал, куда попадет, но ему было наплевать на это, то есть на будущее, в гробу он его видал, это будущее, ничего хорошего оно ему не могло принести, главным образом потому, что для него оно не существовало, для него существовало только мгновение, в котором он оказался и которое вело всех их в чертову бесконечность: и его, того, за кем гнались, и их, тех, кто хотел его схватить, чтобы вволю насладиться его унижением, и подвергнуть всем мыслимым и немыслимым мукам за то, что он так долго не давался им в руки, а потом, в конце, чтобы все ж таки произошло то, что должно было бы произойти в самом начале, то есть чтобы ему свернули шею, или сломали шейные позвонки, или вывернули голову так, чтобы там хрустнуло — и конец.
Если ты задумываешься, если размышляешь что и как — ты пропал, вот о чем он думал, когда размышлял о том, что не будет думать, не будет взвешивать, в каком на правлении, как они считают, он двинется с наименьшей вероятностью, — по нему, так пускай думают, что его потянет в сторону дома, ему все равно было, что и кто об этом думает, для него одно лишь имело значение — как; вообще же он мог полагаться лишь на моментальное, случайное, то есть абсолютно необдуманное решение, на внезапный, словно скачок, порыв в произвольном направлении, порыв, в котором не было, нет и не будет ни взвешивания шансов, ни размышлений куда, почему и так далее, просто он вдруг сорвался с места и теперь мчится, ползет, совершает перебежку, крадется куда-то, сколько хватает сил, так как почувствовал, что за ним, по его следам, идут, бегут, гонятся, и не просто гонятся, страшнее, куда страшнее сознавать, что речь не просто о том, что гонятся, а о том, что хотят убить, тут уж не до того, чтобы думать, подумал он затем, тут уж не до того, чтобы взвешивать шансы, и не только потому, скажем даже, главным образом не потому, что на это нет времени, а потому, что непонятным дляних, нелогичным поступком он перевертывает, перемешивает то, что в них, в преследователях, в такой ситуации происходит: убийца всегда действует по плану, убийца всегда последователен, он предполагает, причем взвешенно предполагает, что тот, кого он должен убить, потому-то и потому-то пойдет туда-то или туда-то, но если тот идет совсем в другую сторону, убийца не знает, как ему быть, ну тут как раз так и вышло: когда началась эта жуткая погоня, он сам не знал, что делает, поэтому все так и получилось, а построй он какой-нибудь план, ему был бы конец, потому что, каким бы он ни был, этот план, в нем была бы какая-то логика, какое-то решение, или хорошее, или плохое, решение направиться туда-то или туда-то, спрятаться там-то или там-то, да только он бросился бежать без памяти, и потому у него и получилось добраться до этого места, тогда как он, конечно, не мог знать, да и в самом деле не знал, куда попадет, но ему было наплевать на это, то есть на будущее, в гробу он его видал, это будущее, ничего хорошего оно ему не могло принести, главным образом потому, что для него оно не существовало, для него существовало только мгновение, в котором он оказался и которое вело всех их в чертову бесконечность: и его, того, за кем гнались, и их, тех, кто хотел его схватить, чтобы вволю насладиться его унижением, и подвергнуть всем мыслимым и немыслимым мукам за то, что он так долго не давался им в руки, а потом, в конце, чтобы все ж таки произошло то, что должно было бы произойти в самом начале, то есть чтобы ему свернули шею, или сломали шейные позвонки, или вывернули голову так, чтобы там хрустнуло — и конец.

11. Станции
 Он понятия не имел, что это за страна — могла быть какая угодно, а что касается языка, то он насобирал несколько самых важных слов, чтобы склеить из них простую фразу, со словами он справился быстро, с этим особых трудностей не было: купить хлеба в лавке или пустые бутылки едать — в общем, с языком шло более-менее, он быстро освоил те несколько фраз и выражений, без которых нельзя было обойтись, но вот о стране никакого определенного представления не сложилось, да его особо и не интересовало, где он находится, а насчет того, что можно, чего нельзя, куда можно, куда нельзя, он довольно быстро сообразил, но что здесь Пула, а там Ровинь, и туда, в сторону Ровиня, нельзя ни в коем случае, — такого рода быстрое понимание приходило совершенно случайно, и вообще — почему, скажем, нельзя в сторону Ровиня, думал он позже, а вот так, нельзя — и нельзя, раздраженно одергивал он себя, потому что вопрос был глупый, а глупые вопросы он не любил и вообще не любил вопросов, об этом уже шла речь или еще будет речь, он и сам не знал, была или будет, иногда, правда, возникали какие-нибудь вопросы, но он очень старался их избегать, плохо он относился к вопросам, они только на нервы действовали, потому что никуда не вели, да и куда они повели бы, если у него никогда не было надобности в ответе, короче, как было, так было, в сторону Ровиня — нельзя, и вот он уже идет по берегу в противоположном направлении, следя лишь за тем, чтобы, двигаясь по берегу, оставаться поближе к морю, с этим у него было как-то так, что море и суша — это две разные большие возможности, поэтому в следующий момент направлением стала Опатия, Опатия и дальше, то, что за ней; в портах он подолгу околачивался вокруг кораблей, часто, смешавшись с толпой, смотрел, как наполняется людьми какой-нибудь пассажирский пароходик, выполняющий короткие рейсы, или огромный круизный лайнер, как они медленно отходят от пирса и уходят в открытое море, но пока что не садился ни на один из них, пока что нет, пока что он оставался на берегу, только двигался постепенно на юг, все время на юг, пока что это был его путь, ну и — только не на автобус, на автобус — никогда, но поездами он пользовался часто, правда, из поездов — только пригородными, в таких поездах было достаточное количество пассажиров, а в то же время он не был тут замкнут в тесном пространстве, как в автобусе, это во-первых, а во-вторых, любая станция давала некоторую обозримость, так что здесь он, быстро глянув туда-сюда, мог составить общее представление о расположении станционных построек, мог видеть, кто из пассажиров в какой вагон садится, мог запомнить какие-то лица, поклажу, верхнюю одежду, зонтики, то, сё, что угодно, из чего, молниеносно оценив ситуацию, мог пойти к вагону на посадку или, наоборот, уносить ноги и искать другую возможность двигаться на юг — почему именно на юг, трудно было сказать, да и ему это было все равно, это мог бы быть и север, или, может (он мог бы сказать?), на запад, но, несмотря ни на что, он говорил себе: на юг, и все, и этого твердо придерживался, но не потому, что верил, будто так безопаснее, для него нигде не было безопаснее, а потому лишь, что не хотел, приняв решение «а ну-ка на север» или «а ну-ка на запад», создать впечатление, будто у него есть некая концепция, словом, он вовсе не поступал правильно, двигаясь на юг, однако и неправильно не поступал, мне все равно, говорил он, и оставался юг, суть ведь в том, чтобы движение в данном направлении выглядело бессмысленным, потому он и придерживался его, думая, что такое движение — все время на юг — будет сбивать с толку умы, которыми, как он предполагал, располагают убийцы, так что да, он двигался и двигался вперед, вдоль моря, и представлял себе — хотя, разумеется, понятия не имел, даже приблизительно не мог представить, так ли оно будет на самом деле, — словом, представлял себе, что если так пойдет дальше, то рано или поздно направление это, на юг, закончится тупиком, и будет гора, которая обрывается в море, и дальше ничего, как-то так он это себе представлял, и как он стоит там, ошеломленный, глядя на обрыв, какой уж там юг, тут ты или карабкаешься вверх, или поворачиваешь назад, одно лишь исключено: что ты будешь стоять и смотреть, как гора крутым обрывом скатывается к морю, потому что, если будешь стоять и смотреть, они, убийцы, мгновенно окажутся там, и схватят тебя, и сломают тебе хромую ногу, и руки сломают, и, взявшись за челюсти, разорвут тебе голову на две части, нет, нет, не будет он там стоять, ни за что на свете, стоять и смотреть, как гора обрывается в воду и как тем самым вдруг наступит конец югу.
Он понятия не имел, что это за страна — могла быть какая угодно, а что касается языка, то он насобирал несколько самых важных слов, чтобы склеить из них простую фразу, со словами он справился быстро, с этим особых трудностей не было: купить хлеба в лавке или пустые бутылки едать — в общем, с языком шло более-менее, он быстро освоил те несколько фраз и выражений, без которых нельзя было обойтись, но вот о стране никакого определенного представления не сложилось, да его особо и не интересовало, где он находится, а насчет того, что можно, чего нельзя, куда можно, куда нельзя, он довольно быстро сообразил, но что здесь Пула, а там Ровинь, и туда, в сторону Ровиня, нельзя ни в коем случае, — такого рода быстрое понимание приходило совершенно случайно, и вообще — почему, скажем, нельзя в сторону Ровиня, думал он позже, а вот так, нельзя — и нельзя, раздраженно одергивал он себя, потому что вопрос был глупый, а глупые вопросы он не любил и вообще не любил вопросов, об этом уже шла речь или еще будет речь, он и сам не знал, была или будет, иногда, правда, возникали какие-нибудь вопросы, но он очень старался их избегать, плохо он относился к вопросам, они только на нервы действовали, потому что никуда не вели, да и куда они повели бы, если у него никогда не было надобности в ответе, короче, как было, так было, в сторону Ровиня — нельзя, и вот он уже идет по берегу в противоположном направлении, следя лишь за тем, чтобы, двигаясь по берегу, оставаться поближе к морю, с этим у него было как-то так, что море и суша — это две разные большие возможности, поэтому в следующий момент направлением стала Опатия, Опатия и дальше, то, что за ней; в портах он подолгу околачивался вокруг кораблей, часто, смешавшись с толпой, смотрел, как наполняется людьми какой-нибудь пассажирский пароходик, выполняющий короткие рейсы, или огромный круизный лайнер, как они медленно отходят от пирса и уходят в открытое море, но пока что не садился ни на один из них, пока что нет, пока что он оставался на берегу, только двигался постепенно на юг, все время на юг, пока что это был его путь, ну и — только не на автобус, на автобус — никогда, но поездами он пользовался часто, правда, из поездов — только пригородными, в таких поездах было достаточное количество пассажиров, а в то же время он не был тут замкнут в тесном пространстве, как в автобусе, это во-первых, а во-вторых, любая станция давала некоторую обозримость, так что здесь он, быстро глянув туда-сюда, мог составить общее представление о расположении станционных построек, мог видеть, кто из пассажиров в какой вагон садится, мог запомнить какие-то лица, поклажу, верхнюю одежду, зонтики, то, сё, что угодно, из чего, молниеносно оценив ситуацию, мог пойти к вагону на посадку или, наоборот, уносить ноги и искать другую возможность двигаться на юг — почему именно на юг, трудно было сказать, да и ему это было все равно, это мог бы быть и север, или, может (он мог бы сказать?), на запад, но, несмотря ни на что, он говорил себе: на юг, и все, и этого твердо придерживался, но не потому, что верил, будто так безопаснее, для него нигде не было безопаснее, а потому лишь, что не хотел, приняв решение «а ну-ка на север» или «а ну-ка на запад», создать впечатление, будто у него есть некая концепция, словом, он вовсе не поступал правильно, двигаясь на юг, однако и неправильно не поступал, мне все равно, говорил он, и оставался юг, суть ведь в том, чтобы движение в данном направлении выглядело бессмысленным, потому он и придерживался его, думая, что такое движение — все время на юг — будет сбивать с толку умы, которыми, как он предполагал, располагают убийцы, так что да, он двигался и двигался вперед, вдоль моря, и представлял себе — хотя, разумеется, понятия не имел, даже приблизительно не мог представить, так ли оно будет на самом деле, — словом, представлял себе, что если так пойдет дальше, то рано или поздно направление это, на юг, закончится тупиком, и будет гора, которая обрывается в море, и дальше ничего, как-то так он это себе представлял, и как он стоит там, ошеломленный, глядя на обрыв, какой уж там юг, тут ты или карабкаешься вверх, или поворачиваешь назад, одно лишь исключено: что ты будешь стоять и смотреть, как гора крутым обрывом скатывается к морю, потому что, если будешь стоять и смотреть, они, убийцы, мгновенно окажутся там, и схватят тебя, и сломают тебе хромую ногу, и руки сломают, и, взявшись за челюсти, разорвут тебе голову на две части, нет, нет, не будет он там стоять, ни за что на свете, стоять и смотреть, как гора обрывается в воду и как тем самым вдруг наступит конец югу.

12. Польза прежних наблюдений
 До чего же все-таки глупое это животное — мышь, он понятия не имеет, почему вдруг сейчас это пришло ему в голову, но пускай, пришло и пришло, приходит иной раз, в такие моменты он весь прямо злостью исходит, нет, в самом деле, чего ученые возятся в своих лабораториях с этими мышами, ну не смешно ли, что такое никчемное существо, как мышь, они готовы считать чуть ли не разумным, нет у них, у мышей, разума, а то, что есть, это всего лишь какой-то намек на разум, обещание, что когда-нибудь, может быть, да только не может быть, никогда такого не будет, да вы посмотрите на нее, на мышь-то, трезвыми глазами, особенно на белую, посмотрите, что она вытворяет в лабиринте, куда ее ученые посадили, дескать, покажи, будь добра, какая ты, милочка, умница, какая находчивая, а я вам скажу: никакая она не находчивая, тупая она как пень, к тому же избалована до невозможности, кормят ее, поят до отвала, она уже поперек себя шире, жизнь — сплошной комфорт, всего-то и дел, что бегать время от времени по лабиринту, вот и все, так она и тут натыкается на стенку, не хватает у нее мозгов заметить вовремя, что стена впереди, нет у нее умишка даже на такой пустяк, ну ладно, неважно, хватит, сказал он, весь красный от злости, чего тут зря говорить, ясно же, глупые они и мерзкие, всё, больше ни слова об этом, потому что факт, что такой темный, такой бесполезный мозг, какой у мыши имеется, это, собственно говоря, уже и не мозг, нет у мыши никакого мозга, мышь, она просто живет, и всё, она для того только и существует, чтобы помелькать в искусственном свете в этих старательно выстроенных и, что уж тут сказать, сказал он, невероятно простых, в общем-то, лабиринтах, в общем, короче, мышь — существо никчемное, это и не животное даже, а что-то в сто раз хуже, да вы сами взгляните, как в конце сеанса ей кладут кусочек сыра, а потом, склонившись над ней, с удовольствием разглядывают, как это обленившееся белесое жирное недоразумение с не знаю каким трудом, кое-как, по большому везению, находит-таки тот кусочек и принимается его грызть — нормального человека, вот как он, тошнит просто, серьезно, когда он про мышь эту думает, а ведь он к мышам никакого отношения не имеет, ну ни малейшего, к какой-нибудь, скажем, скажем, скажем, летучей мыши и то больше имеет отношения, чем к обыкновенной домашней мыши, просто отвращение испытывает к ним, чтоб они сдохли все до единой, как-то видел он одну такую в лаборатории, так знаете, до сих пор злость берет, как вспомнит, а знаете почему? — она там просто сидела и загорала, свет на нее сверху льется, а она сидит и не желает идти сыр искать, ее подбадривают: ну давай же, давай, иди уже, вон какой вкусный сыр, хочешь? — а ей это неинтересно, она только что на спинку не улеглась, руки, лапки то есть, за голову и жмурится от удовольствия, так ей хорошо, лежит и загорает; ну хватит про мышь, что бы ни рассказывали, а учиться у нее нечему, стоит только посмотреть, как она в этом лабиринте мечется, да, но теперь в самом деле всё; он некоторое время молчит, сам не очень понимая, чего он так завелся от какой-то паршивой мыши, мало ли на свете такой гадости, такой гнусности, да хоть та же летучая мышь, например, но для него нет хуже мыши домашней, в этом он честно должен признаться, никто больше так не может вывести его из себя, как эта серая мразь, но тут он и вправду, вправду заканчивает, не желает он думать про мышей, когда за ним гонятся убийцы, и ему из одной тайной ниши, нет, складки, щели мгновения нужно ухитриться перескочить в центр того же мгновения, а затем перелететь еще куда-то, подобно Моби Дику между двумя волнами или умирающему мотыльку меж двумя лепестками подхваченного бурей цветка, — и, забыв обо всем, лететь, нестись, спасаться, словом, выживать. К тому же, как он уже, кажется, говорил, после мгновения — того самого — нет вообще ничего.
До чего же все-таки глупое это животное — мышь, он понятия не имеет, почему вдруг сейчас это пришло ему в голову, но пускай, пришло и пришло, приходит иной раз, в такие моменты он весь прямо злостью исходит, нет, в самом деле, чего ученые возятся в своих лабораториях с этими мышами, ну не смешно ли, что такое никчемное существо, как мышь, они готовы считать чуть ли не разумным, нет у них, у мышей, разума, а то, что есть, это всего лишь какой-то намек на разум, обещание, что когда-нибудь, может быть, да только не может быть, никогда такого не будет, да вы посмотрите на нее, на мышь-то, трезвыми глазами, особенно на белую, посмотрите, что она вытворяет в лабиринте, куда ее ученые посадили, дескать, покажи, будь добра, какая ты, милочка, умница, какая находчивая, а я вам скажу: никакая она не находчивая, тупая она как пень, к тому же избалована до невозможности, кормят ее, поят до отвала, она уже поперек себя шире, жизнь — сплошной комфорт, всего-то и дел, что бегать время от времени по лабиринту, вот и все, так она и тут натыкается на стенку, не хватает у нее мозгов заметить вовремя, что стена впереди, нет у нее умишка даже на такой пустяк, ну ладно, неважно, хватит, сказал он, весь красный от злости, чего тут зря говорить, ясно же, глупые они и мерзкие, всё, больше ни слова об этом, потому что факт, что такой темный, такой бесполезный мозг, какой у мыши имеется, это, собственно говоря, уже и не мозг, нет у мыши никакого мозга, мышь, она просто живет, и всё, она для того только и существует, чтобы помелькать в искусственном свете в этих старательно выстроенных и, что уж тут сказать, сказал он, невероятно простых, в общем-то, лабиринтах, в общем, короче, мышь — существо никчемное, это и не животное даже, а что-то в сто раз хуже, да вы сами взгляните, как в конце сеанса ей кладут кусочек сыра, а потом, склонившись над ней, с удовольствием разглядывают, как это обленившееся белесое жирное недоразумение с не знаю каким трудом, кое-как, по большому везению, находит-таки тот кусочек и принимается его грызть — нормального человека, вот как он, тошнит просто, серьезно, когда он про мышь эту думает, а ведь он к мышам никакого отношения не имеет, ну ни малейшего, к какой-нибудь, скажем, скажем, скажем, летучей мыши и то больше имеет отношения, чем к обыкновенной домашней мыши, просто отвращение испытывает к ним, чтоб они сдохли все до единой, как-то видел он одну такую в лаборатории, так знаете, до сих пор злость берет, как вспомнит, а знаете почему? — она там просто сидела и загорала, свет на нее сверху льется, а она сидит и не желает идти сыр искать, ее подбадривают: ну давай же, давай, иди уже, вон какой вкусный сыр, хочешь? — а ей это неинтересно, она только что на спинку не улеглась, руки, лапки то есть, за голову и жмурится от удовольствия, так ей хорошо, лежит и загорает; ну хватит про мышь, что бы ни рассказывали, а учиться у нее нечему, стоит только посмотреть, как она в этом лабиринте мечется, да, но теперь в самом деле всё; он некоторое время молчит, сам не очень понимая, чего он так завелся от какой-то паршивой мыши, мало ли на свете такой гадости, такой гнусности, да хоть та же летучая мышь, например, но для него нет хуже мыши домашней, в этом он честно должен признаться, никто больше так не может вывести его из себя, как эта серая мразь, но тут он и вправду, вправду заканчивает, не желает он думать про мышей, когда за ним гонятся убийцы, и ему из одной тайной ниши, нет, складки, щели мгновения нужно ухитриться перескочить в центр того же мгновения, а затем перелететь еще куда-то, подобно Моби Дику между двумя волнами или умирающему мотыльку меж двумя лепестками подхваченного бурей цветка, — и, забыв обо всем, лететь, нестись, спасаться, словом, выживать. К тому же, как он уже, кажется, говорил, после мгновения — того самого — нет вообще ничего.

13. Вера
 Если оказался в безвыходном положении, вроде того, в каком сейчас находится он, ты или попробуешь уклониться от вопроса, или честно скажешь: да, верю, — ибо таков, говорят, порядок вещей: в последний час, перед лицом смерти, нет никого, кто не верил бы, все иное — вранье, есть даже такая мрачная шутка: в падающем самолете с каждым метром атеистов все меньше; да, ужасно смешно, сказал он, тряся головой; он как раз стоял на пристани в Сплите, в толпе пассажиров ждал парохода, вернее, делал вид, что ждет, на самом же деле у него вообще не было намерения садиться здесь, в Сплите, на пароход, ему лишь пришла в голову мысль смешаться с толпой, чтобы выиграть немного времени, пока решит, как быть дальше, словом, он стоял и раздумывал: вот если он не верит, то верит ли он все-таки в то, что судьбами нашими, а стало быть, и его судьбой ведает некая Высшая Гармония, а, нет, сказал он себе, ни во что подобное он не верит, никогда и нигде не чувствовал он присутствия этой Высшей Гармонии, а успокоиться, в его-то положении, тем, что верит он просто из страха, он тоже не может себе позволить, ведь если честно, дело обстоит так: к сожалению или не к сожалению, но это достоверный факт, что нет ни богов, ни Высшей Гармонии, ибо есть только то, что есть, не-е-ет, нет уж, у нас это, извините, не пройдет, вера то есть, a вот молитва — это совсем другое, молитва всегда нужна, нужно молиться Зевсу, Афине, вообще богам на небесах, Фетиде, или там Тритону, или прямо Амфитрите, Кому-нибудь или Чему-нибудь, пусть только спасут его еще и в этот, последний раз, один-единственный разочек, он только сейчас просит об этом, больше никогда не будет просить, а сейчас пусть спасут его Зевс на небе и Афина на небе, или сам Эол, или тот самый Кто-нибудь или то самое Что-нибудь в Бесконечном Пространстве, да он что угодно пообещает, чем угодно поклянется, и то сделает, и это сделает, он обещает, что не просто поверит, а очень сильно поверит, и никогда больше ни на минуту не усомнится в вере своей, и не скажет, как сказал перед этим, что вообще ни в кого и ни во что не верит, что есть только то, что есть, и все такое прочее, и не только не скажет, но даже и не подумает такого, и будет причащаться, и снова причащаться, каждый месяц будет причащаться, и будет вместе с батюшкой петь священные песнопения, и справлять церковные праздники, и будет петь и играть на авлосе, и скажет, воздев руки к небу, последние слова, только пускай сейчас спасет его Господь или Какой-нибудь Бог на Вершине Горы Всех Гор, да, он знает, странно слышать подобное от него, произнесшего в своей жизни столько равнодушных фраз о том, насколько и почему он не способен верить, и он очень, очень сожалеет об этом, но что делать, если он понимает природу веры, а потому следовать ей, то есть вере, никоим образом не способен, да и не готов он к этому, он признаёт, — да, так оно было, именно так до настоящего момента, но сейчас, с этой, данной, великой, священной минуты, все будет по-другому, да оно уже и сейчас по-другому, потому что всем своим существом он верит, что Зевс на небесах поможет ему, а он станет вести жизнь смиренную, праведную и не станет встревать в споры о вероучении, никогда ни в какой спор не встрянет, и сердце его преисполнится радостью, что он не встрял ни в какую полемику, потому что он верит, а кто верит, тот не может участвовать в диалоге, который строится на ложных идеях, на идеях, продиктованных гордыней человеческой, и вообще он избегает гордыни и согласен, что именно гордыня, да еще ирония, да еще отсутствие смирения привели его туда, где он сейчас оказался, обрекли на то, чтобы ни во что не верить, особенно же на то, чтобы не верить в Бессмертных, и не верить в отродье Бессмертных, и не верить в тысячи таких-этаких крохотных существ, потому что он в самом деле докатился до чего-то подобного, до нелепых восклицаний и аргументов, но теперь он уже совсем не такой, теперь он часто молится, как вот, например, сейчас, стоя в толпе людей, ожидающих парохода, у Вторых ворот Сплита, стоит, опустив руки и сложив их внизу живота, в тени тела, чтобы никто не видел, и, склонив голову, молится, и пытается сказать что-нибудь проникновенное Афине, потому что молитва Афине у него легче всего идет, где подзабыл текст, там придумывает что-нибудь от себя, так он шел дальше и дальше, даже не шел, а мчался уже, и добрался до последних строк, и так сосредоточился, чтобы продвинуться с этой молитвой как можно дальше, что «Ты есть» произнес вслух, не слишком громко, но все же кое-кто из стоящих поблизости, пускай это прозвучало на непонятном им языке, услышал его, но никто не поднял глаз, только какая-то дама средних лет, со старомодным боа на шее и с пышными светлыми волосами, собранными в огромный узел на затылке, в общем, она обернулась к нему и не так чтобы слишком дружелюбным тоном, скорее как-то так… из чувства долга, что ли, сказала, что беспокоиться не стоит, по прогнозу погоды бора, которая, скорее, будет борина, еще далеко.
Если оказался в безвыходном положении, вроде того, в каком сейчас находится он, ты или попробуешь уклониться от вопроса, или честно скажешь: да, верю, — ибо таков, говорят, порядок вещей: в последний час, перед лицом смерти, нет никого, кто не верил бы, все иное — вранье, есть даже такая мрачная шутка: в падающем самолете с каждым метром атеистов все меньше; да, ужасно смешно, сказал он, тряся головой; он как раз стоял на пристани в Сплите, в толпе пассажиров ждал парохода, вернее, делал вид, что ждет, на самом же деле у него вообще не было намерения садиться здесь, в Сплите, на пароход, ему лишь пришла в голову мысль смешаться с толпой, чтобы выиграть немного времени, пока решит, как быть дальше, словом, он стоял и раздумывал: вот если он не верит, то верит ли он все-таки в то, что судьбами нашими, а стало быть, и его судьбой ведает некая Высшая Гармония, а, нет, сказал он себе, ни во что подобное он не верит, никогда и нигде не чувствовал он присутствия этой Высшей Гармонии, а успокоиться, в его-то положении, тем, что верит он просто из страха, он тоже не может себе позволить, ведь если честно, дело обстоит так: к сожалению или не к сожалению, но это достоверный факт, что нет ни богов, ни Высшей Гармонии, ибо есть только то, что есть, не-е-ет, нет уж, у нас это, извините, не пройдет, вера то есть, a вот молитва — это совсем другое, молитва всегда нужна, нужно молиться Зевсу, Афине, вообще богам на небесах, Фетиде, или там Тритону, или прямо Амфитрите, Кому-нибудь или Чему-нибудь, пусть только спасут его еще и в этот, последний раз, один-единственный разочек, он только сейчас просит об этом, больше никогда не будет просить, а сейчас пусть спасут его Зевс на небе и Афина на небе, или сам Эол, или тот самый Кто-нибудь или то самое Что-нибудь в Бесконечном Пространстве, да он что угодно пообещает, чем угодно поклянется, и то сделает, и это сделает, он обещает, что не просто поверит, а очень сильно поверит, и никогда больше ни на минуту не усомнится в вере своей, и не скажет, как сказал перед этим, что вообще ни в кого и ни во что не верит, что есть только то, что есть, и все такое прочее, и не только не скажет, но даже и не подумает такого, и будет причащаться, и снова причащаться, каждый месяц будет причащаться, и будет вместе с батюшкой петь священные песнопения, и справлять церковные праздники, и будет петь и играть на авлосе, и скажет, воздев руки к небу, последние слова, только пускай сейчас спасет его Господь или Какой-нибудь Бог на Вершине Горы Всех Гор, да, он знает, странно слышать подобное от него, произнесшего в своей жизни столько равнодушных фраз о том, насколько и почему он не способен верить, и он очень, очень сожалеет об этом, но что делать, если он понимает природу веры, а потому следовать ей, то есть вере, никоим образом не способен, да и не готов он к этому, он признаёт, — да, так оно было, именно так до настоящего момента, но сейчас, с этой, данной, великой, священной минуты, все будет по-другому, да оно уже и сейчас по-другому, потому что всем своим существом он верит, что Зевс на небесах поможет ему, а он станет вести жизнь смиренную, праведную и не станет встревать в споры о вероучении, никогда ни в какой спор не встрянет, и сердце его преисполнится радостью, что он не встрял ни в какую полемику, потому что он верит, а кто верит, тот не может участвовать в диалоге, который строится на ложных идеях, на идеях, продиктованных гордыней человеческой, и вообще он избегает гордыни и согласен, что именно гордыня, да еще ирония, да еще отсутствие смирения привели его туда, где он сейчас оказался, обрекли на то, чтобы ни во что не верить, особенно же на то, чтобы не верить в Бессмертных, и не верить в отродье Бессмертных, и не верить в тысячи таких-этаких крохотных существ, потому что он в самом деле докатился до чего-то подобного, до нелепых восклицаний и аргументов, но теперь он уже совсем не такой, теперь он часто молится, как вот, например, сейчас, стоя в толпе людей, ожидающих парохода, у Вторых ворот Сплита, стоит, опустив руки и сложив их внизу живота, в тени тела, чтобы никто не видел, и, склонив голову, молится, и пытается сказать что-нибудь проникновенное Афине, потому что молитва Афине у него легче всего идет, где подзабыл текст, там придумывает что-нибудь от себя, так он шел дальше и дальше, даже не шел, а мчался уже, и добрался до последних строк, и так сосредоточился, чтобы продвинуться с этой молитвой как можно дальше, что «Ты есть» произнес вслух, не слишком громко, но все же кое-кто из стоящих поблизости, пускай это прозвучало на непонятном им языке, услышал его, но никто не поднял глаз, только какая-то дама средних лет, со старомодным боа на шее и с пышными светлыми волосами, собранными в огромный узел на затылке, в общем, она обернулась к нему и не так чтобы слишком дружелюбным тоном, скорее как-то так… из чувства долга, что ли, сказала, что беспокоиться не стоит, по прогнозу погоды бора, которая, скорее, будет борина, еще далеко.

14. Корчула
 Он все-таки сел в Сплите на пароход, решился на это неожиданно, как-то вдруг на него навалилась сонливость, пока он бродил туда-сюда от одного мола к другому и прямо на ходу почувствовал, что вот-вот заснет, и вдруг встрепенулся с ощущением, будто к нему подходят и вроде даже как бы прикасаются, такое вот наваждение приключилось, но хоть это и было наваждение, он совершенно пришел в себя и поскорее унес оттуда ноги, нет, всё, больше ему такого не надо, не может он позволить себе, чтобы ни с того ни с сего у него отключалось внимание, собственно, до этого самого момента с ним подобного не случалось, нет, чтобы он ощутил их настолько близко! он и на сей раз не видел их лиц, правда, раньше он их тоже не видел, лишь чувствовал, но этого было достаточно, этого всегда хватало, чтобы не попасть им в лапы, да у него и не было ни малейшей потребности видеть их, он не хотел их видеть, боялся, что ему станет еще страшнее, и тогда, кто знает, возможно, не хватит сил убегать, потому что они парализуют его волю, но — не сейчас, подумал он, ступая на трап, ведущий на пароход, потому что это было самое неожиданное из всех действий, какие он мог предпринять, — подняться по трапу и исчезнуть с этим пароходиком, который он не выбирал, а, как всегда, положился на случай, но доплыл он на нем лишь до Дубровника, денег за собранные и сданные пустые бутылки хватило только до этого города, там он сошел и пару дней слонялся среди таких же слоняющихся, но в Дубровнике было плохо, так что Дубровнику он сказал нет, Дубровника вроде бы и не было, и он опять стал искать пароход, но не потому, что вода теперь казалась ему надежней, чем суша, а, как и до сих пор, просто так, просто потому что так выпало, он просто шел, будто по следам, за парой стройных ног в узеньких красных туфельках, смотрел только на эти ножки, ступал туда, куда ступали они, и оказался на этом, именно на этом пароходике потому, что и туда последовал за ними, правда, тем самым он снова пошел на риск, причем, пожалуй, даже слишком, так как билет, его-то он и забыл купить, да и кун у него было для этого недостаточно, и хотя той виртуозной техники безбилетника, в которой он давно поднаторел, ему и хватило, чтобы оказаться на пароходе, обманув бдительность матроса, проверявшего билеты, на палубе оставаться он не посмел, а стал искать какой-нибудь закуток, в котором спокойнее было бы дожидаться места высадки, он пошел в одну сторону, пошел в другую и нашел дверцу, которая привела его в утробу парохода, в полумрак, в оглушительный шум, где грохот двигателей подавлял все прочие звуки, ему случалось уже путешествовать так, рядом с корабельными машинами, он их не любил, не нравилось ему и тут, с трудом выносил он эту грубую, чрезмерную силу, с какой двигатель пыхтел, и стучал, и набирал воздух, и выпускал его, и гремел, и сотрясался, и, хрипя, сообщал, что не может больше, — одну-единственную мелодию знали эти машины в трюме, один неумолчный напев, написанный на один и тот же текст «не-проходит-не-пройдет-не-проходит-не-пройдет», каждая машина на каждом пароходе — везде одно и то же, констатировал он про себя, все они или в агонии, или готовятся к ней, еще когда их только ставят на пароход, ставят, чтобы они агонизировали до бесконечности, он их боялся, боялся он и этой, на этом пароходе, хотя выбора у него, можно сказать, и не было, что он мог еще делать, кроме как выдерживать это, кроме как забиться в тесный угол между толстыми горячими трубами, к тому же в самом низу, приди кому-нибудь в голову, кому угодно, что тут кто-то есть, и всё, ему конец, словом, он лишь себе мог сказать спасибо за то, что позволил узеньким красным туфелькам увлечь себя на этот пароход, сюда, где ему теперь уже ох как не хотелось быть, но приходилось оставаться и довериться машинному монстру, чтобы по его бальному реву понимать, где они находятся в данный момент — в открытом море или уже подходят к берегу, и порт называется то ли Бари, то ли еще как-то, — но нет, получилось совсем по-другому: когда снаружи стемнело и он, заметив, что кошмарная машина работает чуть спокойнее и немного в другом ритме, решился наконец высунуться на палубу, оказалось, что пароход причалил к какому-то острову, название он не смог разобрать, вывеску на пристани со стороны парохода почти полностью загораживал огромный эвкалипт, однако он никак не мог успокоиться, очень хотелось знать, куда его занесло, и это, можно смело сказать, была единственная причина, почему он сошел с парохода, и он все-таки узнал, что хотел, а потом, опасаясь остаться в одиночестве среди портовых сооружений и кранов, быстро присоединился к тем нескольким пассажирам, которые сошли вместе с ним, должно быть местные, подумал он, возвращаются домой с работы или с учебы, остров, особенно в этот час, когда его накрыл мягкий тихий закат, выглядел мирным, а он мирных мест не любил, в мирных местах никогда не знаешь, не попал ли ты в одну из так называемых охранных зон, которые для него запретны, но как бы то ни было, он находился на берегу, причем, как вскоре оказалось, непоправимо: пока он колебался, как поступить, и потихоньку брел следом за сошедшими пассажирами, матрос убрал сходни и уже снимал канаты с причальных тумб, к тому же, занимаясь этим, почему-то не спускал с него глаз, так что он посчитал разумным не отделяться от группы приехавших и двинулся следом за ними, туда, куда направлялось большинство, то есть к площади, за которой все пошли в разные стороны, причем молча, никто даже не попрощался с остальными, как будто — каждый день один и тот же пароход, прибывающий в один и тот же час, — слишком уж часто видели они друг друга за минувшие годы или даже десятилетия, чтобы им хотелось еще соблюдать какие-то там формальности, эти люди здесь, подумал он, на всем этом Адриатическом побережье, вообще не особенно дружелюбны, словно они тут много чего пережили, и все это было связано со слишком уж часто поминаемой борой, так что она, эта бора, с дурными воспоминаниями, связанными с ней, наложила печать дурного настроения на всех на них, то есть здесь словно бы даже само летосчисление сложилось так, что то-то и то-то случилось перед борой или после боры, и ни то, ни другое, судя по всему, сердце не радовало, — в общем, он потихоньку отстал от группы вернувшихся домой местных жителей, остановился, глядя, как удаляющийся пароход натягивает на себя плотное покрывало южной ночи, местные за минуту-другую исчезли в узеньких переулках, лишь он один остался на площади, иногда среди несущихся облаков выглядывала луна, в такие минуты стены и мостовые прорезали резкие тени, этого ему хватило, чтобы как-то сориентироваться, долго торчать на одном месте не стоило, лучше было идти куда-нибудь, он пошел в одну сторону, в другую и скоро обошел весь затихший, вымерший городок, где единственным источником шума была удаляющаяся пароходная труба, тогда как здесь, в этих узеньких переулках, дома настолько замкнулись в себе, что даже звяканья тарелок не доносилось, или здесь принято подавать тарелку вернувшемуся домой хозяину без единого звука — кто знает, кто знает, он шел мимо домов с прочными, в металлической оплетке ставнями и думал, как такое возможно, как такое можно представить, не подводит ли его жуткая усталость, накопившаяся в бесконечной этой гонке, — но в нем, вот ведь штука, крепло убеждение, что тех, от кого он если не десятилетия, то по крайней мере годы, месяцы, недели убегает, не было на пароходе, а стало быть, и здесь и сейчас их нет.
Он все-таки сел в Сплите на пароход, решился на это неожиданно, как-то вдруг на него навалилась сонливость, пока он бродил туда-сюда от одного мола к другому и прямо на ходу почувствовал, что вот-вот заснет, и вдруг встрепенулся с ощущением, будто к нему подходят и вроде даже как бы прикасаются, такое вот наваждение приключилось, но хоть это и было наваждение, он совершенно пришел в себя и поскорее унес оттуда ноги, нет, всё, больше ему такого не надо, не может он позволить себе, чтобы ни с того ни с сего у него отключалось внимание, собственно, до этого самого момента с ним подобного не случалось, нет, чтобы он ощутил их настолько близко! он и на сей раз не видел их лиц, правда, раньше он их тоже не видел, лишь чувствовал, но этого было достаточно, этого всегда хватало, чтобы не попасть им в лапы, да у него и не было ни малейшей потребности видеть их, он не хотел их видеть, боялся, что ему станет еще страшнее, и тогда, кто знает, возможно, не хватит сил убегать, потому что они парализуют его волю, но — не сейчас, подумал он, ступая на трап, ведущий на пароход, потому что это было самое неожиданное из всех действий, какие он мог предпринять, — подняться по трапу и исчезнуть с этим пароходиком, который он не выбирал, а, как всегда, положился на случай, но доплыл он на нем лишь до Дубровника, денег за собранные и сданные пустые бутылки хватило только до этого города, там он сошел и пару дней слонялся среди таких же слоняющихся, но в Дубровнике было плохо, так что Дубровнику он сказал нет, Дубровника вроде бы и не было, и он опять стал искать пароход, но не потому, что вода теперь казалась ему надежней, чем суша, а, как и до сих пор, просто так, просто потому что так выпало, он просто шел, будто по следам, за парой стройных ног в узеньких красных туфельках, смотрел только на эти ножки, ступал туда, куда ступали они, и оказался на этом, именно на этом пароходике потому, что и туда последовал за ними, правда, тем самым он снова пошел на риск, причем, пожалуй, даже слишком, так как билет, его-то он и забыл купить, да и кун у него было для этого недостаточно, и хотя той виртуозной техники безбилетника, в которой он давно поднаторел, ему и хватило, чтобы оказаться на пароходе, обманув бдительность матроса, проверявшего билеты, на палубе оставаться он не посмел, а стал искать какой-нибудь закуток, в котором спокойнее было бы дожидаться места высадки, он пошел в одну сторону, пошел в другую и нашел дверцу, которая привела его в утробу парохода, в полумрак, в оглушительный шум, где грохот двигателей подавлял все прочие звуки, ему случалось уже путешествовать так, рядом с корабельными машинами, он их не любил, не нравилось ему и тут, с трудом выносил он эту грубую, чрезмерную силу, с какой двигатель пыхтел, и стучал, и набирал воздух, и выпускал его, и гремел, и сотрясался, и, хрипя, сообщал, что не может больше, — одну-единственную мелодию знали эти машины в трюме, один неумолчный напев, написанный на один и тот же текст «не-проходит-не-пройдет-не-проходит-не-пройдет», каждая машина на каждом пароходе — везде одно и то же, констатировал он про себя, все они или в агонии, или готовятся к ней, еще когда их только ставят на пароход, ставят, чтобы они агонизировали до бесконечности, он их боялся, боялся он и этой, на этом пароходе, хотя выбора у него, можно сказать, и не было, что он мог еще делать, кроме как выдерживать это, кроме как забиться в тесный угол между толстыми горячими трубами, к тому же в самом низу, приди кому-нибудь в голову, кому угодно, что тут кто-то есть, и всё, ему конец, словом, он лишь себе мог сказать спасибо за то, что позволил узеньким красным туфелькам увлечь себя на этот пароход, сюда, где ему теперь уже ох как не хотелось быть, но приходилось оставаться и довериться машинному монстру, чтобы по его бальному реву понимать, где они находятся в данный момент — в открытом море или уже подходят к берегу, и порт называется то ли Бари, то ли еще как-то, — но нет, получилось совсем по-другому: когда снаружи стемнело и он, заметив, что кошмарная машина работает чуть спокойнее и немного в другом ритме, решился наконец высунуться на палубу, оказалось, что пароход причалил к какому-то острову, название он не смог разобрать, вывеску на пристани со стороны парохода почти полностью загораживал огромный эвкалипт, однако он никак не мог успокоиться, очень хотелось знать, куда его занесло, и это, можно смело сказать, была единственная причина, почему он сошел с парохода, и он все-таки узнал, что хотел, а потом, опасаясь остаться в одиночестве среди портовых сооружений и кранов, быстро присоединился к тем нескольким пассажирам, которые сошли вместе с ним, должно быть местные, подумал он, возвращаются домой с работы или с учебы, остров, особенно в этот час, когда его накрыл мягкий тихий закат, выглядел мирным, а он мирных мест не любил, в мирных местах никогда не знаешь, не попал ли ты в одну из так называемых охранных зон, которые для него запретны, но как бы то ни было, он находился на берегу, причем, как вскоре оказалось, непоправимо: пока он колебался, как поступить, и потихоньку брел следом за сошедшими пассажирами, матрос убрал сходни и уже снимал канаты с причальных тумб, к тому же, занимаясь этим, почему-то не спускал с него глаз, так что он посчитал разумным не отделяться от группы приехавших и двинулся следом за ними, туда, куда направлялось большинство, то есть к площади, за которой все пошли в разные стороны, причем молча, никто даже не попрощался с остальными, как будто — каждый день один и тот же пароход, прибывающий в один и тот же час, — слишком уж часто видели они друг друга за минувшие годы или даже десятилетия, чтобы им хотелось еще соблюдать какие-то там формальности, эти люди здесь, подумал он, на всем этом Адриатическом побережье, вообще не особенно дружелюбны, словно они тут много чего пережили, и все это было связано со слишком уж часто поминаемой борой, так что она, эта бора, с дурными воспоминаниями, связанными с ней, наложила печать дурного настроения на всех на них, то есть здесь словно бы даже само летосчисление сложилось так, что то-то и то-то случилось перед борой или после боры, и ни то, ни другое, судя по всему, сердце не радовало, — в общем, он потихоньку отстал от группы вернувшихся домой местных жителей, остановился, глядя, как удаляющийся пароход натягивает на себя плотное покрывало южной ночи, местные за минуту-другую исчезли в узеньких переулках, лишь он один остался на площади, иногда среди несущихся облаков выглядывала луна, в такие минуты стены и мостовые прорезали резкие тени, этого ему хватило, чтобы как-то сориентироваться, долго торчать на одном месте не стоило, лучше было идти куда-нибудь, он пошел в одну сторону, в другую и скоро обошел весь затихший, вымерший городок, где единственным источником шума была удаляющаяся пароходная труба, тогда как здесь, в этих узеньких переулках, дома настолько замкнулись в себе, что даже звяканья тарелок не доносилось, или здесь принято подавать тарелку вернувшемуся домой хозяину без единого звука — кто знает, кто знает, он шел мимо домов с прочными, в металлической оплетке ставнями и думал, как такое возможно, как такое можно представить, не подводит ли его жуткая усталость, накопившаяся в бесконечной этой гонке, — но в нем, вот ведь штука, крепло убеждение, что тех, от кого он если не десятилетия, то по крайней мере годы, месяцы, недели убегает, не было на пароходе, а стало быть, и здесь и сейчас их нет.
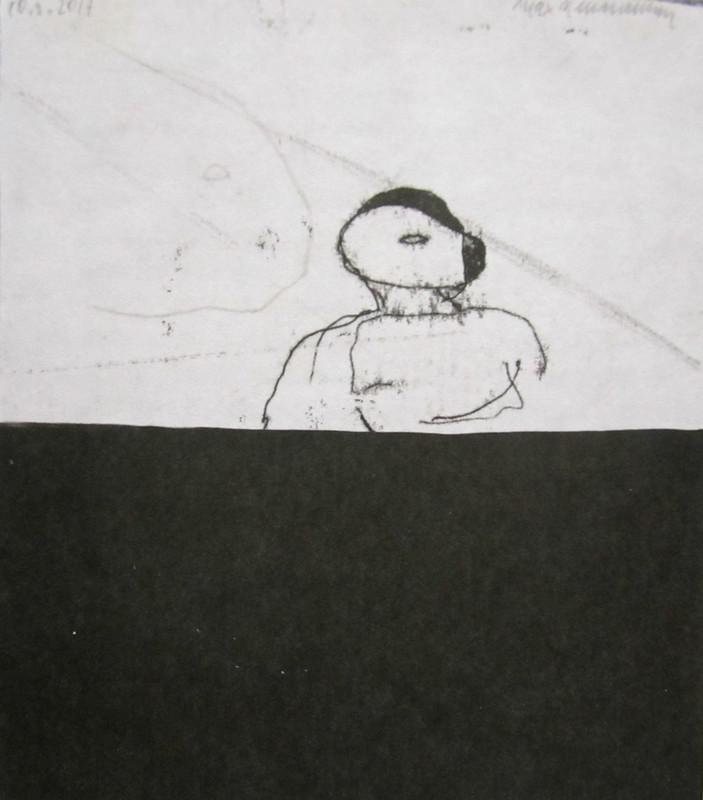
15. Млет
 Бора пришла вскоре после полуночи, и к рассвету он так продрог, что уже не только руки и голову, но и всего его трясло крупной дрожью, и вот наконец возле пристани, построенной в юго-восточном уголке острова, открылся первый бар, в нем появились мужчины и женщины с хмурыми лицами, они, навалившись на стойку, пили разбавленное вино: поднимали стаканы, отхлебывали, ставили стаканы обратно, но ни один из них не произносил ни слова, они даже друг на друга не смотрели, а если и поднимали взгляд, то лишь на барменшу, с которой некоторые из них позже перекидывались короткими репликами, но он, конечно, ни слова не понимал из их речи, так что для него был настоящий праздник — не говоря уж о том, что в натопленном помещении дрожь его постепенно прошла, — когда в дверях появился высокий седой, с внушающим почтение взглядом старик, как потом выяснилось, местный гид, и на прекрасном английском, хотя и с обычным для этих краев сильным хорватским акцентом, стал приглашать в бар японскую супружескую пару, тоже весьма немолодую, супруги были то ли стеснительны, то ли не хотели тратиться, они махали гиду с улицы, дескать, нет, не надо, не будут они заходить, но старик был настойчив и держался с ними не слишком дружелюбно, скорее с вежливым упорством, когда, уже находясь внутри, активно звал их, и объяснял, и сыпал аргументами, мол, не заставляйте себя упрашивать, заходите уже, не упрямьтесь, да считайтесь хотя бы с тем, что, пока дверь открыта, холод же входит, потом кинул барменше: бора — и мотнул головой в сторону улицы, это, должно быть, служило приветствием, и барменша, молодая, совсем тоненькая светловолосая девушка, ответила скупо, сквозь зубы: da, stigla je, потом новые посетители, японцы, устроились-таки за столиком, как раз поблизости от того места, где, обхватив ладонями кружку с еще теплым кофе, сидел он и слышал, как старик спрашивает у супругов, что они будут пить; и те после долгого совещания попросили два капучино, старик пошел к стойке — тут он заметил, что одну ногу старик чуть-чуть, но подволакивает, — постоял в ожидании заказа, пока его клиенты, супружеская пара за столиком — судя и по одежде, и по поведению, приехавшие сюда с туристическими целями, — негромко, но эмоционально о чем-то спорили на своем языке, потом, получив капучино, стиснули в пальцах ручку чашки и замолчали, а старик-гид заговорил с привычными для гида интонациями, дескать, вы сами увидите, этот остров очень заслуживает внимания, это природный заповедник, он не потому им все это говорит, что живет с этого, он уже давно на пенсии, только жена еще работает на пристани по часу, по два в день, если приходят или уходят суда, которые когда-то принадлежали их семье, а он — нет, он уже не работает, так что не подумайте, будто у него денежный интерес, но все же хотелось бы их убедить, да вы хотя бы послушайте, оборвал он робкие протесты сидящей напротив него пары, которая явно не соглашалась на что-то такое, чего никак не должна была пропустить, и старик на своем безупречном английском продолжал: вы сами смотрите, вы поймите, это то самое, что для любого туриста, который сюда приехал, вершина всего, он не говорит, что Корчула того не стоит, Корчула очень даже того стоит, Корчула — это прекрасно, тут полным-полно интереснейших исторических памятников, не говоря уж о том, что Корчула для его сердца — самое дорогое, он ведь тут, на острове то есть, родился, тут жизнь прожил, тут и умрет, когда придет время, ему Корчула — будто часть его самого, но если начистоту, то настоящая сенсация все же не тут, милая мадам, обратился он теперь скорее к женщине, словно надеялся встретить с ее стороны больше понимания или, во всяком случае, меньше сопротивления, а вон там, и он мотнул головой в неопределенном направлении, в сезон туда огромное количество мелких судов ходит, сказал он, сейчас, конечно, едва-едва, но он найдет способ, к тому же для него это обойдется бесплатно, и он все устроит наилучшим образом, они отправятся, когда захотят, и вернутся, как будет договорено, словом, все это решаемо, и он только повторить может: для него денежного интереса тут нет, это только в ваших интересах, и он вперил в них взгляд, словно в двух преступников, чья вина стала очевидной, так что бедняги еще крепче сжали в пальцах чашечки с капучино, это совершенно невероятное место, это ни с чем не сравнимая заповедная территория, не посмотреть это чудо, этот уникальный уголок, единственный в мировой истории, знаете, продолжал гнуть свою линию гид-пенсионер, это все равно что побывать в Риме и не увидеть Сикстинскую капеллу, понимаете?! — он посмотрел на них с серьезным осуждением: их еще нужно убеждать в подобном! — и отпил из своей кружки, потом вынул из кармана какую-то книжку, открыл ее на первой странице и начал читать вслух: Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, / Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен… его лишь[1], и тут он подмигнул удивленно смотревшей на него паре, его лишь, разлукой / С милой женой и отчизной крушимого, в гроте глубоком / Светлая нимфа Калипсо, богиня богинь, произвольной / силой держала, и поднял на них взгляд, и голос у него зазвучал грозно, когда он повторил: нимфа Калипсо, понимаете, в гроте глубоком… держала, напрасно желая, чтоб был ей супругом, потом, поскольку, глянув на них, обнаружил, что эти двое, сидящие напротив, вряд ли, судя по их лицам, прониклись услышанным, он закрыл книгу, поднял ее в правой руке, потряс ею, словно намеревался без слов дать понять, что это, если вы еще не поняли, это Гомер, это не я говорю, это Гомер говорит, сам Гомер, понимаете вы это вообще?; потом снова открыл книгу, полистал, хмыкая и кивая, и, пролистав довольно долго, вдруг ткнул указательным пальцем в какую-то строчку и прочел вслух: а когда он острова, морем вдали сокровенного, скоро достигнул, и, дойдя до слов «острова, морем вдали сокровенного», снова подмигнул, хотя они уже не скрывали, что все это им глубоко безразлично, и всем своим видом показывали, что готовы встать и уйти, потому что не понимают, при чем тут эта книга и зачем они должны слушать эту декламацию, старик же продолжал: с зыби широко-туманной на твердую землю поднявшись, перед этим тут речь про Гермеса, пояснил он японцам, берегом к темному гроту пошел он, где светлокудрявой / Нимфы обитель была, и тут старик в третий раз прервал чтение, но указательный палец со страницы не убрал, лишь повторил со значением и с требовательным выражением на лице: слышали? понимаете? — где нимфы обитель была, и поднял руку и, как бы отбивая ею ритм, еще раз произнес: светлокудрявой, и продолжил чтение: пламень трескучий сверкал на ее очаге, и весь остров / Был накурен благовонием кедра и дерева жизни, / Ярко пылавших. И голосом звонко-приятным богиня / Пела, сидя с челноком золотым за узорною тканью. / Густо разросшись, отвсюду пещеру ее окружали / Тополи, ольхи и сладкий лиющие дух кипарисы; / В лиственных сенях гнездилися там длиннокрылые птицы, / Кобчики, совы, морские вороны крикливые, шумной / Стаей по взморью ходящие, пищи себе добывая; / Сетью зеленою стены глубокого грота окинув, / Рос виноград, и на ветвях тяжелые грозды висели; / Светлой струею четыре источника рядом бежали/ Близко один от другого, туда и сюда извиваясь; / Вкруг зеленели густые луга, и фиалок и злаков / Полные сочных, ну и так далее и так далее, старик снова похмыкал и, водя указательным пальцем по строчкам, снова стал что-то искать, и когда нашел, голос его вновь загремел, и он опять воздел указательный палец, и строки полились: с первого взгляда / Нимфа, богиня богинь, догадавшися, гостя узнала / (Быть незнакомы друг другу не могут бессмертные боги, /Даже когда б и великое их разлучало пространство). / Но Одиссея, могучего мужа, а, слышите, как выражается поэт, обратился старик к своим жертвам, которые по ту сторону стола уже на какой-нибудь сантиметр приподнялись было со своих стульев, но тут же быстро сели обратно, слышите?! — повторил он и с этого момента уже не скрывал, что сердится на них, отчего те сделали вид, будто слушают очень внимательно, а старик продолжил: Но Одиссея, могучего мужа, там Эрмий не встретил; / Он одиноко сидел на утесистом бреге и плакал; / Горем и вздохами душу питая, там дни проводил он, / Взор, помраченный слезами, вперив на пустынное море. / Эрмия сесть приглася на богато украшенных креслах, / Нимфа, богиня богинь, у него с любопытством спросила: «Эрмий, носитель жезла золотого, почтенный и милый / Гость мой, зачем прилетел?», там-там-там-та-ра-рам, там-там-там-там, потрясал старик указательным пальцем над строчками, снова ища что-то в тексте, ага, вот: с сими словами богиня, поставивши стол перед гостем, / С сладкой амброзией нектар ему подала пурпуровый. / Пищи охотно вкусил благовестник, убийца Аргуса. / Душу довольно свою насладивши божественной пищей, / Словом таким он ответствовал нимфе прекраснокудрявой: / «Знать от меня ты — от бога богиня — желаешь, зачем я / Здесь? Объявлю все поистине, волю твою исполняя. <…> Ведомо Дию, что скрыт у тебя злополучнейший самый / Муж из мужей, перед градом Приама сражавшихся девять / Лет, на десятый же, град ниспровергнув, отплывших в отчизну; / Но при отплытии дерзко они раздражили Афину: / Бури послала на них и великие волны богиня. / Он же, сопутников верных своих потеряв, напоследок, / Схваченный бурей, сюда был волнами великими брошен. / Требуют боги, чтоб был он немедля тобою отослан; / Ибо ему не судьба умереть далеко от отчизны; / Воля, напротив, судьбы, чтоб возлюбленных ближних, родную / Землю и светлоустроенный дом свой опять он увидел». Так он сказал ей. Калипсо, богиня богинь, содрогнувшись… — и тут супруги-японцы уже взялись за руки и, насколько было возможно, отстранились, сидя на своих стульях, от стола, потому что старик вновь воздел палец ввысь и повторил: Калипсо, богиня богинь, содрогнувшись… — но произнес это таким громовым голосом, с таким триумфом, что на него оглянулись даже люди у стойки, он же продолжал читать дальше тем же громким, японской супружеской паре ничего хорошего не обещавшим тоном: Голос возвысила свой и крылатое бросила слово: / «Боги ревнивые, скаль вы безжалостно к нам непреклонны! / Вас раздражает, когда мы, богини, приемлем на ложе/Смертного мужа и нам он становится милым супругом. / Так Орион светоносною Эос был некогда избран; / Гнали его вы, живущие легкою жизнию боги, / Гнали до тех пор, пока златотронныя он Артемиды / Тихой стрелою в Ортигии не был внезапно застрелен. / Так Ясион был прекраснокудрявой Деметрою избран; / Сердцем его возлюбя, разделила с ним ложе богиня / На поле, три раза вспаханном; скоро о том извещен был Зевс, / И его умертвил он, низринувши пламенный гром свой. / Ныне я вас прогневала, боги, дав смертному мужу / Помощь, когда, обхватив корабельную доску, в волнах он / Гибнул — корабль же его быстроходный был пламенным громом / Зевса разбит посреди беспредельно-пустынного моря: / Так он, сопутников верных своих потеряв, напоследок, / Схваченный бурей, сюда был волнами великими брошен. / Здесь приютивши его и заботясь о нем, я хотела / Милому дать и бессмертье, и вечно-цветущую младость. / Но повелений Зевеса-эгидодержавца не смеет / Между богов ни один отклонить от себя, ни нарушить; / Пусть он — когда уж того так упорно желает Кронион —/Морю неверному снова предастся; помочь я не в силах; / Нет корабля, ни людей мореходных, с которыми мог бы/Он безопасно пройти по хребту многоводного моря. / Дать лишь совет осторожный властна я, дабы он отсюда / Мог беспрепятственно в милую землю отцов возвратиться». / Ей отвечая, сказал благовестник, убийца Аргуса, — там-та-ра-там-там, там-там-там ра-ра-там-там, и указательный палец снова поискал что-то и нашел: светлая нимфа пошла к Одиссею, могучему мужу, / Волю Зевеса принявши из уст благовестного бога. / Он одиноко сидел на утесистом бреге, и очи / Были в слезах; утекала медлительно капля за каплей / Жизнь для него в непрестанной тоске по отчизне; и, хладный / Сердцем к богине… — хах-х, гаркнул, глянув на японцев, старик, так что те подпрыгнули, теперь они смотрели на него как на сумасшедшего, от которого в самом деле надо как-то избавиться, а тот, с горящим взглядом, едва ли не в экстазе от каждого дактиля и спондея, продолжал: с ней ночи свои он делил принужденно / В гроте глубоком, желанью ее непокорный желаньем. / Дни же свои проводил он, сидя на прибрежном утесе, / Горем, и плачем, и вздохами душу питая и очи, / Полные слез, обратив на пустыню бесплодного моря. / Близко к нему подошедши, сказала могучая нимфа: / «Слезы отри, злополучный, и боле не трать в сокрушенье / Сладостной жизни: тебя отпустить благосклонно хочу я», и с этими словами старик опустил книгу и долго укоризненно смотрел на японцев, или, может быть, не укоризненно, а скорее как бы смирившись с тем, чего не поправишь, и в лице его была грусть величия, осознавшего свое бессилие перед насмешкой над добрым намерением, не имеющим смысла, а потому заведомо тщетным, и потом надломленным голосом сказал лишь: а известно ли вам вообще, что Калипсо — это нимфа смерти?! — на что супруги, самую-самую чуточку, качнули головами в знак отрицания; а знаете вы, чуть повысив надломленный голос, спросил гид, что такое погребальный остров?! — и те двое опять качнули головами, на что старик, своей обессилевшей рукой все еще держа на коленях книгу, сказал лишь: оплачиваю дорогу туда и обратно, но он и сам знал, что супруги на это тоже не откликнутся, они просто сидели не двигаясь, с явным намерением найти выход из ситуации, в которую влипли, старик-гид лишь смотрел на них, ни слова не говоря, и горько тряс головой, нет, не понимает он этого, просто не может себе представить, как это люди отказываются от такого, лучше чего вообще не бывает, так продолжалось за соседним столиком некоторое время, но наш беглец, перестав следить за японцами и за гидом, обежал взглядом лица людей у стойки, потом снова повернулся к странной компании, к старику, который бессильно, но смирившись с тем, чего не поправишь, не сводил таз со своих японцев, которые явно высматривали, как скорее попасть к выходу, и движениями головы подбадривали друг друга, ну, мол, давай, пошли наконец, — но все это его уже никак не интересовало, кофе давно кончился, да и вообще он вполне довольствовался тем, что может сидеть, сцепив руки вокруг пустой кружки, — как вдруг уловил фразу, с которой старик-гид, театральным жестом захлопнув книгу и сунув ее в карман, обратился к испуганной супружеской паре, сообщив, что the island is unsettled, — он даже вскинул голову, правильно ли он понял, но понял он правильно, — старик, словно это был последний его аргумент, больше он ничего предложить не может, несколько раз повторил, что the island is unsettled, подведя конец разговору, вскочил из-за стола и, никакого внимания не обращая на перепуганных, совсем сбитых с толку японцев, кинул на лету девушке-барменше: «Гостевое право умерло, туризму конец!» — и вихрем вылетел в дверь; с этим и для него все закончилось, перестало быть, и перестал быть вокруг него мир, потому что в голове у него звучало и звучало unsettled, он повторил это слово несколько раз про себя, словно пытался продвинуть его хоть немножко вперед и вертеть его, пока на нем остается хоть лоскуток нераскрытого смысла, и потом спросить, возможно ли это, возможно ли, что, не считая того факта, что его забросило неведомо куда, и того, что, по его ощущениям, преследователи, с большой долей вероятности, его потеряли, есть еще что-то, что и эту долю вероятности превосходит? что, может быть, есть еще более невероятное место — тут, совсем близко, место, которое необитаемо?! возможно ли? что это конец? что он спасется? или, по крайней мере, отодвинет гибель? ведь если то, другое, место, а это, надо думать, тоже остров — клубились в голове у него лихорадочные мысли, — если оно в самом деле необитаемо, а пароходного сообщения в это время года в самом деле почти нет, как говорил старик, то для него это почти твердое обещание, что он выживет, что переживет хотя бы этот сезон, и кто знает, может, снова станет хозяином своей судьбы, если они, те, окончательно потеряют его из виду, — может он в это поверить? — спросил он себя и повернул голову, чтобы получше рассмотреть старика, не слова его услышать, а увидеть глаза: может ли он им довериться, может ли поверить, что остров, который старик с таким воодушевлением предлагал вниманию этой несчастной супружеской пары, станет убежищем для него. И, хотя старика давно уже не было за соседним столиком, очень понравились ему эти глаза.
Бора пришла вскоре после полуночи, и к рассвету он так продрог, что уже не только руки и голову, но и всего его трясло крупной дрожью, и вот наконец возле пристани, построенной в юго-восточном уголке острова, открылся первый бар, в нем появились мужчины и женщины с хмурыми лицами, они, навалившись на стойку, пили разбавленное вино: поднимали стаканы, отхлебывали, ставили стаканы обратно, но ни один из них не произносил ни слова, они даже друг на друга не смотрели, а если и поднимали взгляд, то лишь на барменшу, с которой некоторые из них позже перекидывались короткими репликами, но он, конечно, ни слова не понимал из их речи, так что для него был настоящий праздник — не говоря уж о том, что в натопленном помещении дрожь его постепенно прошла, — когда в дверях появился высокий седой, с внушающим почтение взглядом старик, как потом выяснилось, местный гид, и на прекрасном английском, хотя и с обычным для этих краев сильным хорватским акцентом, стал приглашать в бар японскую супружескую пару, тоже весьма немолодую, супруги были то ли стеснительны, то ли не хотели тратиться, они махали гиду с улицы, дескать, нет, не надо, не будут они заходить, но старик был настойчив и держался с ними не слишком дружелюбно, скорее с вежливым упорством, когда, уже находясь внутри, активно звал их, и объяснял, и сыпал аргументами, мол, не заставляйте себя упрашивать, заходите уже, не упрямьтесь, да считайтесь хотя бы с тем, что, пока дверь открыта, холод же входит, потом кинул барменше: бора — и мотнул головой в сторону улицы, это, должно быть, служило приветствием, и барменша, молодая, совсем тоненькая светловолосая девушка, ответила скупо, сквозь зубы: da, stigla je, потом новые посетители, японцы, устроились-таки за столиком, как раз поблизости от того места, где, обхватив ладонями кружку с еще теплым кофе, сидел он и слышал, как старик спрашивает у супругов, что они будут пить; и те после долгого совещания попросили два капучино, старик пошел к стойке — тут он заметил, что одну ногу старик чуть-чуть, но подволакивает, — постоял в ожидании заказа, пока его клиенты, супружеская пара за столиком — судя и по одежде, и по поведению, приехавшие сюда с туристическими целями, — негромко, но эмоционально о чем-то спорили на своем языке, потом, получив капучино, стиснули в пальцах ручку чашки и замолчали, а старик-гид заговорил с привычными для гида интонациями, дескать, вы сами увидите, этот остров очень заслуживает внимания, это природный заповедник, он не потому им все это говорит, что живет с этого, он уже давно на пенсии, только жена еще работает на пристани по часу, по два в день, если приходят или уходят суда, которые когда-то принадлежали их семье, а он — нет, он уже не работает, так что не подумайте, будто у него денежный интерес, но все же хотелось бы их убедить, да вы хотя бы послушайте, оборвал он робкие протесты сидящей напротив него пары, которая явно не соглашалась на что-то такое, чего никак не должна была пропустить, и старик на своем безупречном английском продолжал: вы сами смотрите, вы поймите, это то самое, что для любого туриста, который сюда приехал, вершина всего, он не говорит, что Корчула того не стоит, Корчула очень даже того стоит, Корчула — это прекрасно, тут полным-полно интереснейших исторических памятников, не говоря уж о том, что Корчула для его сердца — самое дорогое, он ведь тут, на острове то есть, родился, тут жизнь прожил, тут и умрет, когда придет время, ему Корчула — будто часть его самого, но если начистоту, то настоящая сенсация все же не тут, милая мадам, обратился он теперь скорее к женщине, словно надеялся встретить с ее стороны больше понимания или, во всяком случае, меньше сопротивления, а вон там, и он мотнул головой в неопределенном направлении, в сезон туда огромное количество мелких судов ходит, сказал он, сейчас, конечно, едва-едва, но он найдет способ, к тому же для него это обойдется бесплатно, и он все устроит наилучшим образом, они отправятся, когда захотят, и вернутся, как будет договорено, словом, все это решаемо, и он только повторить может: для него денежного интереса тут нет, это только в ваших интересах, и он вперил в них взгляд, словно в двух преступников, чья вина стала очевидной, так что бедняги еще крепче сжали в пальцах чашечки с капучино, это совершенно невероятное место, это ни с чем не сравнимая заповедная территория, не посмотреть это чудо, этот уникальный уголок, единственный в мировой истории, знаете, продолжал гнуть свою линию гид-пенсионер, это все равно что побывать в Риме и не увидеть Сикстинскую капеллу, понимаете?! — он посмотрел на них с серьезным осуждением: их еще нужно убеждать в подобном! — и отпил из своей кружки, потом вынул из кармана какую-то книжку, открыл ее на первой странице и начал читать вслух: Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, / Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен… его лишь[1], и тут он подмигнул удивленно смотревшей на него паре, его лишь, разлукой / С милой женой и отчизной крушимого, в гроте глубоком / Светлая нимфа Калипсо, богиня богинь, произвольной / силой держала, и поднял на них взгляд, и голос у него зазвучал грозно, когда он повторил: нимфа Калипсо, понимаете, в гроте глубоком… держала, напрасно желая, чтоб был ей супругом, потом, поскольку, глянув на них, обнаружил, что эти двое, сидящие напротив, вряд ли, судя по их лицам, прониклись услышанным, он закрыл книгу, поднял ее в правой руке, потряс ею, словно намеревался без слов дать понять, что это, если вы еще не поняли, это Гомер, это не я говорю, это Гомер говорит, сам Гомер, понимаете вы это вообще?; потом снова открыл книгу, полистал, хмыкая и кивая, и, пролистав довольно долго, вдруг ткнул указательным пальцем в какую-то строчку и прочел вслух: а когда он острова, морем вдали сокровенного, скоро достигнул, и, дойдя до слов «острова, морем вдали сокровенного», снова подмигнул, хотя они уже не скрывали, что все это им глубоко безразлично, и всем своим видом показывали, что готовы встать и уйти, потому что не понимают, при чем тут эта книга и зачем они должны слушать эту декламацию, старик же продолжал: с зыби широко-туманной на твердую землю поднявшись, перед этим тут речь про Гермеса, пояснил он японцам, берегом к темному гроту пошел он, где светлокудрявой / Нимфы обитель была, и тут старик в третий раз прервал чтение, но указательный палец со страницы не убрал, лишь повторил со значением и с требовательным выражением на лице: слышали? понимаете? — где нимфы обитель была, и поднял руку и, как бы отбивая ею ритм, еще раз произнес: светлокудрявой, и продолжил чтение: пламень трескучий сверкал на ее очаге, и весь остров / Был накурен благовонием кедра и дерева жизни, / Ярко пылавших. И голосом звонко-приятным богиня / Пела, сидя с челноком золотым за узорною тканью. / Густо разросшись, отвсюду пещеру ее окружали / Тополи, ольхи и сладкий лиющие дух кипарисы; / В лиственных сенях гнездилися там длиннокрылые птицы, / Кобчики, совы, морские вороны крикливые, шумной / Стаей по взморью ходящие, пищи себе добывая; / Сетью зеленою стены глубокого грота окинув, / Рос виноград, и на ветвях тяжелые грозды висели; / Светлой струею четыре источника рядом бежали/ Близко один от другого, туда и сюда извиваясь; / Вкруг зеленели густые луга, и фиалок и злаков / Полные сочных, ну и так далее и так далее, старик снова похмыкал и, водя указательным пальцем по строчкам, снова стал что-то искать, и когда нашел, голос его вновь загремел, и он опять воздел указательный палец, и строки полились: с первого взгляда / Нимфа, богиня богинь, догадавшися, гостя узнала / (Быть незнакомы друг другу не могут бессмертные боги, /Даже когда б и великое их разлучало пространство). / Но Одиссея, могучего мужа, а, слышите, как выражается поэт, обратился старик к своим жертвам, которые по ту сторону стола уже на какой-нибудь сантиметр приподнялись было со своих стульев, но тут же быстро сели обратно, слышите?! — повторил он и с этого момента уже не скрывал, что сердится на них, отчего те сделали вид, будто слушают очень внимательно, а старик продолжил: Но Одиссея, могучего мужа, там Эрмий не встретил; / Он одиноко сидел на утесистом бреге и плакал; / Горем и вздохами душу питая, там дни проводил он, / Взор, помраченный слезами, вперив на пустынное море. / Эрмия сесть приглася на богато украшенных креслах, / Нимфа, богиня богинь, у него с любопытством спросила: «Эрмий, носитель жезла золотого, почтенный и милый / Гость мой, зачем прилетел?», там-там-там-та-ра-рам, там-там-там-там, потрясал старик указательным пальцем над строчками, снова ища что-то в тексте, ага, вот: с сими словами богиня, поставивши стол перед гостем, / С сладкой амброзией нектар ему подала пурпуровый. / Пищи охотно вкусил благовестник, убийца Аргуса. / Душу довольно свою насладивши божественной пищей, / Словом таким он ответствовал нимфе прекраснокудрявой: / «Знать от меня ты — от бога богиня — желаешь, зачем я / Здесь? Объявлю все поистине, волю твою исполняя. <…> Ведомо Дию, что скрыт у тебя злополучнейший самый / Муж из мужей, перед градом Приама сражавшихся девять / Лет, на десятый же, град ниспровергнув, отплывших в отчизну; / Но при отплытии дерзко они раздражили Афину: / Бури послала на них и великие волны богиня. / Он же, сопутников верных своих потеряв, напоследок, / Схваченный бурей, сюда был волнами великими брошен. / Требуют боги, чтоб был он немедля тобою отослан; / Ибо ему не судьба умереть далеко от отчизны; / Воля, напротив, судьбы, чтоб возлюбленных ближних, родную / Землю и светлоустроенный дом свой опять он увидел». Так он сказал ей. Калипсо, богиня богинь, содрогнувшись… — и тут супруги-японцы уже взялись за руки и, насколько было возможно, отстранились, сидя на своих стульях, от стола, потому что старик вновь воздел палец ввысь и повторил: Калипсо, богиня богинь, содрогнувшись… — но произнес это таким громовым голосом, с таким триумфом, что на него оглянулись даже люди у стойки, он же продолжал читать дальше тем же громким, японской супружеской паре ничего хорошего не обещавшим тоном: Голос возвысила свой и крылатое бросила слово: / «Боги ревнивые, скаль вы безжалостно к нам непреклонны! / Вас раздражает, когда мы, богини, приемлем на ложе/Смертного мужа и нам он становится милым супругом. / Так Орион светоносною Эос был некогда избран; / Гнали его вы, живущие легкою жизнию боги, / Гнали до тех пор, пока златотронныя он Артемиды / Тихой стрелою в Ортигии не был внезапно застрелен. / Так Ясион был прекраснокудрявой Деметрою избран; / Сердцем его возлюбя, разделила с ним ложе богиня / На поле, три раза вспаханном; скоро о том извещен был Зевс, / И его умертвил он, низринувши пламенный гром свой. / Ныне я вас прогневала, боги, дав смертному мужу / Помощь, когда, обхватив корабельную доску, в волнах он / Гибнул — корабль же его быстроходный был пламенным громом / Зевса разбит посреди беспредельно-пустынного моря: / Так он, сопутников верных своих потеряв, напоследок, / Схваченный бурей, сюда был волнами великими брошен. / Здесь приютивши его и заботясь о нем, я хотела / Милому дать и бессмертье, и вечно-цветущую младость. / Но повелений Зевеса-эгидодержавца не смеет / Между богов ни один отклонить от себя, ни нарушить; / Пусть он — когда уж того так упорно желает Кронион —/Морю неверному снова предастся; помочь я не в силах; / Нет корабля, ни людей мореходных, с которыми мог бы/Он безопасно пройти по хребту многоводного моря. / Дать лишь совет осторожный властна я, дабы он отсюда / Мог беспрепятственно в милую землю отцов возвратиться». / Ей отвечая, сказал благовестник, убийца Аргуса, — там-та-ра-там-там, там-там-там ра-ра-там-там, и указательный палец снова поискал что-то и нашел: светлая нимфа пошла к Одиссею, могучему мужу, / Волю Зевеса принявши из уст благовестного бога. / Он одиноко сидел на утесистом бреге, и очи / Были в слезах; утекала медлительно капля за каплей / Жизнь для него в непрестанной тоске по отчизне; и, хладный / Сердцем к богине… — хах-х, гаркнул, глянув на японцев, старик, так что те подпрыгнули, теперь они смотрели на него как на сумасшедшего, от которого в самом деле надо как-то избавиться, а тот, с горящим взглядом, едва ли не в экстазе от каждого дактиля и спондея, продолжал: с ней ночи свои он делил принужденно / В гроте глубоком, желанью ее непокорный желаньем. / Дни же свои проводил он, сидя на прибрежном утесе, / Горем, и плачем, и вздохами душу питая и очи, / Полные слез, обратив на пустыню бесплодного моря. / Близко к нему подошедши, сказала могучая нимфа: / «Слезы отри, злополучный, и боле не трать в сокрушенье / Сладостной жизни: тебя отпустить благосклонно хочу я», и с этими словами старик опустил книгу и долго укоризненно смотрел на японцев, или, может быть, не укоризненно, а скорее как бы смирившись с тем, чего не поправишь, и в лице его была грусть величия, осознавшего свое бессилие перед насмешкой над добрым намерением, не имеющим смысла, а потому заведомо тщетным, и потом надломленным голосом сказал лишь: а известно ли вам вообще, что Калипсо — это нимфа смерти?! — на что супруги, самую-самую чуточку, качнули головами в знак отрицания; а знаете вы, чуть повысив надломленный голос, спросил гид, что такое погребальный остров?! — и те двое опять качнули головами, на что старик, своей обессилевшей рукой все еще держа на коленях книгу, сказал лишь: оплачиваю дорогу туда и обратно, но он и сам знал, что супруги на это тоже не откликнутся, они просто сидели не двигаясь, с явным намерением найти выход из ситуации, в которую влипли, старик-гид лишь смотрел на них, ни слова не говоря, и горько тряс головой, нет, не понимает он этого, просто не может себе представить, как это люди отказываются от такого, лучше чего вообще не бывает, так продолжалось за соседним столиком некоторое время, но наш беглец, перестав следить за японцами и за гидом, обежал взглядом лица людей у стойки, потом снова повернулся к странной компании, к старику, который бессильно, но смирившись с тем, чего не поправишь, не сводил таз со своих японцев, которые явно высматривали, как скорее попасть к выходу, и движениями головы подбадривали друг друга, ну, мол, давай, пошли наконец, — но все это его уже никак не интересовало, кофе давно кончился, да и вообще он вполне довольствовался тем, что может сидеть, сцепив руки вокруг пустой кружки, — как вдруг уловил фразу, с которой старик-гид, театральным жестом захлопнув книгу и сунув ее в карман, обратился к испуганной супружеской паре, сообщив, что the island is unsettled, — он даже вскинул голову, правильно ли он понял, но понял он правильно, — старик, словно это был последний его аргумент, больше он ничего предложить не может, несколько раз повторил, что the island is unsettled, подведя конец разговору, вскочил из-за стола и, никакого внимания не обращая на перепуганных, совсем сбитых с толку японцев, кинул на лету девушке-барменше: «Гостевое право умерло, туризму конец!» — и вихрем вылетел в дверь; с этим и для него все закончилось, перестало быть, и перестал быть вокруг него мир, потому что в голове у него звучало и звучало unsettled, он повторил это слово несколько раз про себя, словно пытался продвинуть его хоть немножко вперед и вертеть его, пока на нем остается хоть лоскуток нераскрытого смысла, и потом спросить, возможно ли это, возможно ли, что, не считая того факта, что его забросило неведомо куда, и того, что, по его ощущениям, преследователи, с большой долей вероятности, его потеряли, есть еще что-то, что и эту долю вероятности превосходит? что, может быть, есть еще более невероятное место — тут, совсем близко, место, которое необитаемо?! возможно ли? что это конец? что он спасется? или, по крайней мере, отодвинет гибель? ведь если то, другое, место, а это, надо думать, тоже остров — клубились в голове у него лихорадочные мысли, — если оно в самом деле необитаемо, а пароходного сообщения в это время года в самом деле почти нет, как говорил старик, то для него это почти твердое обещание, что он выживет, что переживет хотя бы этот сезон, и кто знает, может, снова станет хозяином своей судьбы, если они, те, окончательно потеряют его из виду, — может он в это поверить? — спросил он себя и повернул голову, чтобы получше рассмотреть старика, не слова его услышать, а увидеть глаза: может ли он им довериться, может ли поверить, что остров, который старик с таким воодушевлением предлагал вниманию этой несчастной супружеской пары, станет убежищем для него. И, хотя старика давно уже не было за соседним столиком, очень понравились ему эти глаза.

16. Хорошо, но еще недостаточно
 Он быстро оставил за спиной маленькую пристань, которая и названия пристани-то не очень заслуживала, поскольку были там только ветхие мостки да пара тумб, к которым коротким тросом пришвартовывали эти маленькие, глубоко сидящие в воде суденышки, и в лодке вместе с ним находилось всего пятеро человек, причем по их своеобразной одежде сразу видно было, что это японцы и что это японцы-туристы, которые прибыли сюда, чтобы увидеть так называемые удивительные природные сокровища, а если они захотят что-то сверх того, то за четыре часа, отведенные на экскурсию, посмотрят еще деревни, которые содержат здесь уже только из-за туристов, а после этого — «самого Одиссея», как на ломаном английском сообщил, излагая программу экскурсии, парнишка, который вел баркас, в общем, японцы, сказал он себе, и было настолько ясно, что они никакого отношения не имеют и не могут иметь к его истории, к тому же среди них не было даже той супружеской пары, которую он видел утром, что он почти не почувствовал необходимости испробовать на них свою технику молниеносного общего контроля, правда, он все же ее испробовал, и проверку они прошли успешно, это были точно японцы и точно безобидные туристы, так что он почти с облегчением, словно на свободу, сошел на берег и двинулся в глубь острова, сначала вместе со всеми, это казалось самой естественной тактикой — оставаться со всеми, не то чтобы среди них, потому что разговоры вести с ними он не собирался, но и не очень отделяясь от них, так что какое-то время они шагали одной группой по утоптанной тропе, потом, когда подошли к озерцу со спокойной водой, откуда вел пролив в другое озеро, побольше, в дальней части которого — как можно было судить по карте, прикрепленной к столбу у причала, — на крохотном островке пряталась церковь Святой Марии, Crkva Sv. Marije, а рядом — руины монастыря, тут четверо японцев сразу устроили привал и с громкими ах-х и ох-х углубились в созерцание озера, он же неторопливо пошел себе дальше, словно он здесь для другой цели, не из-за озера и не из-за церкви Святой Марии, а, скажем — в заповедниках это, наверное, не такая уж редкость, — чтобы охотиться на какую-нибудь редкую бабочку или изучать, как проводит зимний период какое-нибудь необычное растение, — все равно, какая-нибудь простая причина, совершенно само собой разумеющееся объяснение, которое четверо оставшихся наверняка воспримут как нужно, если захотят, и не удивятся, почему он не остался с ними, а через минуту, надо думать, напрочь забудут, и в самом деле, через минуту они кинулись созерцать озеро, потом фотографироваться, потом просто таращили глаза, глядя поверх спокойной озерной воды, а он — за несколько минут, потому что шаг он не ускорил, — исчез из их поля зрения, просто зашел за деревья, даже еще по-настоящему не отдаляясь от берега, но уже и не собственно по берегу, так что, когда через некоторое время он резко изменил направление и двинулся в гущу леса, он еще видел их, они стояли, теперь уже в двух или трех сотнях метров от него, и ждали моторную лодку, которая, в соответствии с какой-то, по-видимому, заранее составленной программой, покатает их по озеру и доставит к церквиСвятой Марии; лес, куда он забрел, был очень густой, и первое, чему он тут, среди иерусалимских сосен, удивился, был он сам: он обнаружил, что не придерживается своей обычной манеры ходьбы, не слишком медленной, не слишком быстрой, а то медленной, то быстрой, перемежающейся внезапными остановками, потом короткими перебежками — нет, он шел ровным шагом, в том же темпе, в каком только что уходил от спутников-японцев, ему незачем было торопиться, он даже испугался было, подумав, что ошибается, и еще раз испугался, подумав, что так и есть, вернее, испугался он в первый раз, а потом успокоился, потом попытался понять, с чего это он такой спокойный, и стал искать, где совершил ошибку, он старался доказать себе, что спокойствие это, подобного которому он не испытывал уже давно, с тех самых пор, как пустился в бега, словом, спокойствие это — всего лишь душевная аномалия, но вскоре бросил эти попытки и удовлетворился объяснением, что причина тут, надо думать, крайняя усталость, так что решил пока идти ровным шагом, организм его сейчас ни на что другое не способен, подумал он, кроме как на покой, и сказал себе, ладно, раз организм так хочет, пусть будет так, и это был момент, начиная с которого он, хоть и не избавился от сомнений, все же поверил, что это сам остров внушает ему спокойную уверенность в безопасности, да, остров, который, возможно, служит в данной ситуации не только для того, чтобы стать укрытием от опасности, но и прямо-таки спасает его, и он почувствовал, как все более и более освобождается от судорожной, давящей скованности, словно до сих пор он жил под тысячетонным колоколом, и вот теперь эту тысячу тонн медленно-медленно поднимает неведомая сила, и он снова может дышать чистым воздухом, и делает глубокий вдох, какого не делал уже если не десятилетия, то, по крайней мере, годы, месяцы, недели, и он углублялся все дальше в лес, пока не вышел на тропу, и тропа привела его в деревушку под названием Полаце, и там он не встретил никого, кроме продавца журналов, тот, положив голову на руки, крепко спал, спал так сладко и крепко, что вместе с ним спали даже его оставшиеся с летнего сезона пожелтевшие, с завернувшимися уголками журналы, а рядом — два пучка петрушки, перевязанные тонкими виноградными жгутиками, так что через Полаце ему удалось пройти так, что ни одна живая душа не узнала, что он тут был, и он чувствовал себя все спокойнее и все свободнее, глядя на дорогу перед собой, на темные спокойные иерусалимские сосны по сторонам, он не знал, куда ведет эта дорога, но это нисколько его не пугало, он уже сказал себе, что это хорошо, и сейчас он впервые подумал, что на сей раз «хорошо» — не обман, не ловушка, а… просто хорошо, без всяких «но», потому что в самом деле ведь хорошо, что случай привел его сюда, и хорошо, что Млет способен внушить ему эту мысль, и хорошо, что он снова может во что-то верить, словом, что хорошо, то хорошо, повторял он про себя, шагая вдоль неширокой аккуратной дороги, и шел, и шел, и говорил, что хорошо, но шел дальше, потому что думал: да, это хорошо, но все-таки еще недостаточно.
Он быстро оставил за спиной маленькую пристань, которая и названия пристани-то не очень заслуживала, поскольку были там только ветхие мостки да пара тумб, к которым коротким тросом пришвартовывали эти маленькие, глубоко сидящие в воде суденышки, и в лодке вместе с ним находилось всего пятеро человек, причем по их своеобразной одежде сразу видно было, что это японцы и что это японцы-туристы, которые прибыли сюда, чтобы увидеть так называемые удивительные природные сокровища, а если они захотят что-то сверх того, то за четыре часа, отведенные на экскурсию, посмотрят еще деревни, которые содержат здесь уже только из-за туристов, а после этого — «самого Одиссея», как на ломаном английском сообщил, излагая программу экскурсии, парнишка, который вел баркас, в общем, японцы, сказал он себе, и было настолько ясно, что они никакого отношения не имеют и не могут иметь к его истории, к тому же среди них не было даже той супружеской пары, которую он видел утром, что он почти не почувствовал необходимости испробовать на них свою технику молниеносного общего контроля, правда, он все же ее испробовал, и проверку они прошли успешно, это были точно японцы и точно безобидные туристы, так что он почти с облегчением, словно на свободу, сошел на берег и двинулся в глубь острова, сначала вместе со всеми, это казалось самой естественной тактикой — оставаться со всеми, не то чтобы среди них, потому что разговоры вести с ними он не собирался, но и не очень отделяясь от них, так что какое-то время они шагали одной группой по утоптанной тропе, потом, когда подошли к озерцу со спокойной водой, откуда вел пролив в другое озеро, побольше, в дальней части которого — как можно было судить по карте, прикрепленной к столбу у причала, — на крохотном островке пряталась церковь Святой Марии, Crkva Sv. Marije, а рядом — руины монастыря, тут четверо японцев сразу устроили привал и с громкими ах-х и ох-х углубились в созерцание озера, он же неторопливо пошел себе дальше, словно он здесь для другой цели, не из-за озера и не из-за церкви Святой Марии, а, скажем — в заповедниках это, наверное, не такая уж редкость, — чтобы охотиться на какую-нибудь редкую бабочку или изучать, как проводит зимний период какое-нибудь необычное растение, — все равно, какая-нибудь простая причина, совершенно само собой разумеющееся объяснение, которое четверо оставшихся наверняка воспримут как нужно, если захотят, и не удивятся, почему он не остался с ними, а через минуту, надо думать, напрочь забудут, и в самом деле, через минуту они кинулись созерцать озеро, потом фотографироваться, потом просто таращили глаза, глядя поверх спокойной озерной воды, а он — за несколько минут, потому что шаг он не ускорил, — исчез из их поля зрения, просто зашел за деревья, даже еще по-настоящему не отдаляясь от берега, но уже и не собственно по берегу, так что, когда через некоторое время он резко изменил направление и двинулся в гущу леса, он еще видел их, они стояли, теперь уже в двух или трех сотнях метров от него, и ждали моторную лодку, которая, в соответствии с какой-то, по-видимому, заранее составленной программой, покатает их по озеру и доставит к церквиСвятой Марии; лес, куда он забрел, был очень густой, и первое, чему он тут, среди иерусалимских сосен, удивился, был он сам: он обнаружил, что не придерживается своей обычной манеры ходьбы, не слишком медленной, не слишком быстрой, а то медленной, то быстрой, перемежающейся внезапными остановками, потом короткими перебежками — нет, он шел ровным шагом, в том же темпе, в каком только что уходил от спутников-японцев, ему незачем было торопиться, он даже испугался было, подумав, что ошибается, и еще раз испугался, подумав, что так и есть, вернее, испугался он в первый раз, а потом успокоился, потом попытался понять, с чего это он такой спокойный, и стал искать, где совершил ошибку, он старался доказать себе, что спокойствие это, подобного которому он не испытывал уже давно, с тех самых пор, как пустился в бега, словом, спокойствие это — всего лишь душевная аномалия, но вскоре бросил эти попытки и удовлетворился объяснением, что причина тут, надо думать, крайняя усталость, так что решил пока идти ровным шагом, организм его сейчас ни на что другое не способен, подумал он, кроме как на покой, и сказал себе, ладно, раз организм так хочет, пусть будет так, и это был момент, начиная с которого он, хоть и не избавился от сомнений, все же поверил, что это сам остров внушает ему спокойную уверенность в безопасности, да, остров, который, возможно, служит в данной ситуации не только для того, чтобы стать укрытием от опасности, но и прямо-таки спасает его, и он почувствовал, как все более и более освобождается от судорожной, давящей скованности, словно до сих пор он жил под тысячетонным колоколом, и вот теперь эту тысячу тонн медленно-медленно поднимает неведомая сила, и он снова может дышать чистым воздухом, и делает глубокий вдох, какого не делал уже если не десятилетия, то, по крайней мере, годы, месяцы, недели, и он углублялся все дальше в лес, пока не вышел на тропу, и тропа привела его в деревушку под названием Полаце, и там он не встретил никого, кроме продавца журналов, тот, положив голову на руки, крепко спал, спал так сладко и крепко, что вместе с ним спали даже его оставшиеся с летнего сезона пожелтевшие, с завернувшимися уголками журналы, а рядом — два пучка петрушки, перевязанные тонкими виноградными жгутиками, так что через Полаце ему удалось пройти так, что ни одна живая душа не узнала, что он тут был, и он чувствовал себя все спокойнее и все свободнее, глядя на дорогу перед собой, на темные спокойные иерусалимские сосны по сторонам, он не знал, куда ведет эта дорога, но это нисколько его не пугало, он уже сказал себе, что это хорошо, и сейчас он впервые подумал, что на сей раз «хорошо» — не обман, не ловушка, а… просто хорошо, без всяких «но», потому что в самом деле ведь хорошо, что случай привел его сюда, и хорошо, что Млет способен внушить ему эту мысль, и хорошо, что он снова может во что-то верить, словом, что хорошо, то хорошо, повторял он про себя, шагая вдоль неширокой аккуратной дороги, и шел, и шел, и говорил, что хорошо, но шел дальше, потому что думал: да, это хорошо, но все-таки еще недостаточно.

17. К надежде
 Идти было легко, ему казалось, он не идет, а просто разрезает воздух, и стало вечереть, и он шел всю ночь, и потом весь день, и снова наступил вечер, а он совсем не устал, наоборот, чувствовал себя все более отдохнувшим, ноги были легкими, а ощущение от ходьбы оставалось прежним, это было свободное движение, вперед и вперед, на неизвестном, покинутом людьми острове, его словно несла какая-то сила, о которой он до сих пор понятия не имел и не подозревал даже, что подобное существует, он не знал, что это такое и как это назвать, но его это не тревожило, оно даже и лучше, что нет для этого состояния особого слова, думал он, теперь он уже был уверен, что убийцы его потеряли и что эта дорога с иерусалимскими соснами по обочинам приведет его туда, где они его никогда не найдут, где ему ничего не нужно будет бояться, а пока надо лишь идти, идти, идти, все время идти вперед, коли уж он оказался на острове, у которого, очевидно, никогда не было и никогда не будет конца. Легкие ноги его шли и шли.
Идти было легко, ему казалось, он не идет, а просто разрезает воздух, и стало вечереть, и он шел всю ночь, и потом весь день, и снова наступил вечер, а он совсем не устал, наоборот, чувствовал себя все более отдохнувшим, ноги были легкими, а ощущение от ходьбы оставалось прежним, это было свободное движение, вперед и вперед, на неизвестном, покинутом людьми острове, его словно несла какая-то сила, о которой он до сих пор понятия не имел и не подозревал даже, что подобное существует, он не знал, что это такое и как это назвать, но его это не тревожило, оно даже и лучше, что нет для этого состояния особого слова, думал он, теперь он уже был уверен, что убийцы его потеряли и что эта дорога с иерусалимскими соснами по обочинам приведет его туда, где они его никогда не найдут, где ему ничего не нужно будет бояться, а пока надо лишь идти, идти, идти, все время идти вперед, коли уж он оказался на острове, у которого, очевидно, никогда не было и никогда не будет конца. Легкие ноги его шли и шли.

18. У Калипсо
 На табличке значилось: если повернуть направо, попадешь в Блато, но он не хотел в Блато, он вообще никуда не хотел попасть, он хотел оставаться — и остался — в дороге, потому что ему хотелось лишь двигаться вперед, шагать, наслаждаясь ходьбой, потому что ноги у него, честное слово, были легки как пух, и вообще все было как пух, все его тело, и он уже мог бы сказать, если бы было кому, что ногам его и нести-то уже нечего, потому что тело его тоже превратилось в комочек пуха, он не ощущал никакого веса, вес исчез из его жизни, и еще он чувствовал, что, куда бы ни смотрел, налево или направо, все вокруг было невесомо: сплошь невесомые сосны, сплошь-сплошь невесомо-неземные цветы васильков рагузайских да молочаев джубайских, и даже земля на тропе, по которой он шагал, утратила вес, и небо, сегодня снова засиявшее дивной синевой, тоже мягко плыло и колыхалось, словно пух, от боры и следа не осталось, а ветер если и оставался, то для того лишь, чтобы чуть шевелить и покачивать все это пуховое царство, в том числе и его самого с его легкими ногами, и дорогу под ним, и небо над ним, и деревья, и морских ворон, молча сидящих на ветках, и каждую по отдельности травинку вокруг, чтобы все сущее парило невесомо, и вот уже снова начинает смеркаться, сколько же дней прошло, как он высадился из лодки на западном берегу острова, и уже опускается и сдвигается куда-то назад дневной свет, окрашивая горизонт за спиной, но он не смотрел назад и не видел горизонт, он, собственно, уже почти ничего не видел, только у деревни Бабино Поле — надпись на слегка покосившейся табличке:
На табличке значилось: если повернуть направо, попадешь в Блато, но он не хотел в Блато, он вообще никуда не хотел попасть, он хотел оставаться — и остался — в дороге, потому что ему хотелось лишь двигаться вперед, шагать, наслаждаясь ходьбой, потому что ноги у него, честное слово, были легки как пух, и вообще все было как пух, все его тело, и он уже мог бы сказать, если бы было кому, что ногам его и нести-то уже нечего, потому что тело его тоже превратилось в комочек пуха, он не ощущал никакого веса, вес исчез из его жизни, и еще он чувствовал, что, куда бы ни смотрел, налево или направо, все вокруг было невесомо: сплошь невесомые сосны, сплошь-сплошь невесомо-неземные цветы васильков рагузайских да молочаев джубайских, и даже земля на тропе, по которой он шагал, утратила вес, и небо, сегодня снова засиявшее дивной синевой, тоже мягко плыло и колыхалось, словно пух, от боры и следа не осталось, а ветер если и оставался, то для того лишь, чтобы чуть шевелить и покачивать все это пуховое царство, в том числе и его самого с его легкими ногами, и дорогу под ним, и небо над ним, и деревья, и морских ворон, молча сидящих на ветках, и каждую по отдельности травинку вокруг, чтобы все сущее парило невесомо, и вот уже снова начинает смеркаться, сколько же дней прошло, как он высадился из лодки на западном берегу острова, и уже опускается и сдвигается куда-то назад дневной свет, окрашивая горизонт за спиной, но он не смотрел назад и не видел горизонт, он, собственно, уже почти ничего не видел, только у деревни Бабино Поле — надпись на слегка покосившейся табличке:
то есть «Одиссеева пещера», и это было ему очень кстати, он как раз подумал, что если до сих пор он шел вперед, никуда не сворачивая, то сейчас, например, хорошо было бы повернуть направо, — и именно там, где ему этого захотелось, можно было повернуть, и он повернул и пошел по узенькой извилистой тропке, которая порадовала его тем, что, едва он ступил на нее, стала спускаться, и спускалась довольно круто, эта узенькая извилистая тропка, бежавшая среди высоких кустов, а дальше — ни сосен, ни васильков, ни молочая, только ольха, одна лишь ольха, а на ветвях сидят рогатые совы и соколы, и все это он охватил одним взглядом, но его не особенно удивили эти странные неподвижные птицы на ветвях, да и сами деревья, так неожиданно пришедшие на смену соснам; он всматривался лишь в тропинку, вьющуюся в густых зарослях, такую узкую, что он там едва помещался, и тропка эта действительно шла вниз довольно круто, так что он — притом что тело его стало почти невесомым — теперь, ускоряя шаги на спуске, через некоторое время почувствовал, что едва касается ногами земли, едва ли не парит в воздухе, все стремительнее двигаясь вниз, а на тропе извилина следовала за извилиной, за кустами не видно было, что ждет его в следующий момент, и, одолев очередную извилину, он вдруг увидел море, море было невероятно огромным, и было невероятно синим, и расстилалось справа от него, внизу, далеко-далеко, покрывая все, что только можно покрыть, и он смотрел на него, сбегая-слетая вниз, смотрел и смотрел, и сердце готово было разорваться от счастья, что он все это видит и чувствует, и уже не ноги несли его, он сам несся вниз, едва успевая вписаться в очередной поворот, и вдруг в какой-то момент, после особенно крутого виража, слева от него возникла зияющая, в виде гигантской воронки, глубокая пропасть, рыхлый верхний край которой от тропы отделяла лишь ветхая, еле держащаяся на сгнивших деревянных кольях проволочная изгородь длиной метра два, но едва ли она могла удержать того, кто на нее налетит, тем более сверху, с разбега, потому что, сказал он в последний момент или, скорее, в конце отведенного ему последнего момента, потому что земля там, на кромке обрыва, такая сухая и рыхлая, что просто чудо, как еще эти колья держатся, они в самом деле ничуточки не выглядят надежными, способными удержать кого-то, тем более спружинить и отбросить назад, как, например, его, когда он, вылетев из очередного виража, наткнется на это ограждение, и ему ничего не останется, кроме как, может быть вместе с ограждением, рухнуть в бездонную пропасть, — словом, ему уже не дано было увидеть, что внизу, у самого дна пропасти, чернеет в скальной стене зев огромной пещеры, вход в нее был на другой стороне скалы, в море, под водой, это значит, что доступна она была только с моря, доступна, конечно, относительно, если нырнешь и найдешь вход, — что как раз и сделали, примерно в это же самое время, пятеро дайверов: они как раз вынырнули из воды, заполнявшей нижнюю часть пещеры, и сейчас, изумленные, смотрели ввысь, на верхнюю кромку огромной воронки, где и увидели, что там, наверху, склонились, почти висят, два или три почерневших деревянных кола, которые удерживает там, не давая упасть, только прикрепленная к ним проволока, и вынырни они на пару минут раньше, они бы увидели его, увидели бы, как он, налетев на смехотворное ограждение, сметает его и, еще падая, разбивается о скальные выступы, но этого они не увидели, с ним уже всё было кончено, для него уже всё закончилось, а пятеро дайверов, две женщины и трое мужчин, друг за другом выплыли из внутреннего, в сторону провала открывающегося выхода из пещеры, выбрались из воды, все они были очень рады чему-то, может быть тому, что нашли то, что искали, что у них все получилось, вот он, другой выход, и все они здесь, и, перекрикивая шум моря за скальной стеной, скрывающей пещеру, одна из женщин, которая наконец-то избавилась ненадолго от подводной маски и смогла выплюнуть изо рта дыхательную трубку, прыгая в воде и размахивая руками, принялась торжествующе орать: ха-хо-о-о, ха-хо-о-о, Калипсо-о, мы здесь, ха-хо-о-о, и остальные, разделяя ее радость, еще по пояс в воде, принялись колотить по воде кулаками, поднимая фонтаны брызг, потом медленно, друг за другом, такие забавные в ластах, похожие на вставших на задние лапы лягушек, вышли на камни и стали смотреть вверх, медленно, как бы метр за метром, поднимая изумленные взгляды выше и выше, до верхнего, отсюда, снизу, на невероятной высоте находящегося полукружия кромки, когда старший из них, с пучком волос, стянутых на затылке резинкой, — наверное, он был руководителем группы — что-то заметил поодаль, среди камней, справа от пещеры, и взгляды у всех посерьезнели, они пытались понять, что там увидел их старший, но пойти туда никто не отважился, пошел только он, старший из них, чтобы посмотреть, что там такое, подходил он туда осторожно, ведь это могло быть что угодно, он подошел, пошевелил это «что угодно» ногой, потом махнул остальным, а, ничего особенного, просто дохлая крыса, крикнул он, не бойтесь.ODISEJEVA SPILJA,

19. Нет
 Он не сдался.
Он не сдался.
Выходные данные
Ласло Краснахорхаи
ГОМЕР НАВСЕГДА
Литературно-художественное издание
Издатель Дарина Якунина Генеральный директор Олег Филиппов Ответственный редактор Юлия Надпорожская Литературный редактор Мария Выбурская Художественный редактор Ольга Явич Дизайнер Елена Подушка Корректор Людмила Виноградова Верстка Елены Падалки
Подписано в печать 03.10.2024. Формат издания 60×100 1/6. Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ № 6491/24.
ООО «Поляндрия Ноу Эйдж». 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, лит. А, офис 422. www.polyandria.ru, e-mail: noage@polyandria.ru
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № ЗА. www.pareto-print.ru

Последние комментарии
16 часов 7 минут назад
1 день 4 часов назад
1 день 5 часов назад
1 день 16 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 23 часов назад