Васильев Лев Мстиславович
Пути советского империализма. Советская экономическая система и основа внешней политики СССР



Предисловие
Советский империализм — факт очевидный, но все же, далеко не во всех направлениях достаточно изученный и выясненный. Цели этого империализма ясны: это — установление коммунистического строя во всем мире, притом непременно под руководством преемников тех, кто в Октябре 1917 года захватили власть под знаменем большевизма. В этом обязательном условии — главенства определенной группы лиц — существенное отличие нынешнего советского империализма от первоначального, безличноинтернационального задания. В основном хорошо известны и средства, примененные и применяющиеся на путях к достижению конечной цели. Решающее средство — насильственный переворот, допустимый, однако, только при условии почти абсолютно обеспеченной удачи, таков октябрьский переворот в России и февральский (1948 г.) переворот в Чехословакии. На втором месте стоит использование военной конъюнктуры, то есть такого расположения и соотношения военных сил, что прямое или косвенное применение военной силы советской власти должно безболезненно привести к желаемому результату, не вызвав опасных осложнений. В порядке прямого использования военной конъюнктуры, попросту говоря завоевания, в 1939 году присоединены Восточная Польша, в 1940-м — Балтийские государства и часть Финляндии. В последнем
случае произошел редкий в истории советского империализма просчет: Финская война не оказалась приятной военной прогулкой и чуть было не вызвала войну с Англией и Францией. В известном смысле просчетом оказалось и корейское действо 1950 года. В порядке прямых военных действий был сделан и самый решительный шаг на путях порабощения человечества коммунизмом — завоевание красными силами Китая. Но в этом случае Советская империя в точном смысле слова осталась в стороне. Из Москвы была оказана некоторая поддержка, выразившаяся больше всего в предоставлении китайским коммунистам военного оборудования, сданного японцами советским армиям. Но на вооруженную борьбу за подчинение всего Китая Кремль долго не давал благословения. Причина ясна: победа Мао над Чан Кайши подчинила 450 млн человек коммунистическому строю, но не власти Кремля, что в новом истолковании советского империализма играет решающую роль. Красный Китай пока идет в ногу с красной Москвой и, вероятно, и впредь будет так себя вести. Но в Кремле отлично знают, что заставить Мао что-либо сделать или от чего-либо отказаться нет возможности, тогда как всякий приказ из Москвы будет точно исполнен марионетками, сидящими в Варшаве, Праге и Будапеште. История с принятием, на два дня, плана Маршалла Польшей и Чехословакией и затем отказом от него, после окрика из Москвы, достаточно показательна.
К прямому использованию военной конъюнктуры примыкает косвенное — именно в этом порядке введены в Советскую империю Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Северная Корея, а также Восточная Германия. Во всех этих странах законная оккупация советскими войсками была использована для незаконной передачи власти ничтожным коммунистическим меньшинствам, которые немедленно приступили к работе по упрочению своего положения, при помощи созданной ими политической полиции, пропаганды и захваченной школьной системы. Отсутствие советской оккупации привело к отпадению присоединенной Югославии; тамошние события подтверждают, что присоединение вышеназванных стран произошло именно методом использования военной конъюнктуры. При отсутствии оккупации, лишь частично, в отношении внешней политики, подчинена Финляндия; особые обстоятельства, а именно сохранение в известной степени сотрудничества с западными державами помешало порабощению оккупированной части Австрии.
Переворот, в условиях, обеспечивающих успех; прямое использование военной конъюнктуры, в тех же условиях, и косвенное использование той же конъюнктуры, по существу всегда сравнительно безопасное — таковы приемы расширения Советской империи. Но настоящая большая война против могущественного противника к числу средств, намеченных к употреблению, по-видимому, не принадлежит, по крайне мере, до тех пор, пока не создадутся условия, почти на 100 % гарантирующие ее успех. Несколько лет тому назад с таким положением можно было спорить; в настоящее время под ним подписываются все внимательные наблюдатели советской внешней политики. Оно естественно вытекает из той доктрины революции, которую развил и удачно применил Ленин, а положений, оправдавших себя на практике, без веских оснований не отбрасывают.
Но если расширение Советской империи, вне указанных выше условий, не входит в конкретный план действий советских империалистов, то на подготовку будущего расширения, при изменении конъюнктуры, они затрачивают немало усилий. Средства разнообразны и хорошо известны. Сюда, прежде всего, относится пропаганда в двух направлениях: восхвалением мнимых достижений коммунистического строя и огульное поношение всего того, что делается за пределами империи. Далее идет подкуп бюрократов, общественных деятелей и журналистов противного стана, причем, кстати сказать, не большевиками изобретенный; разжигание неудовольствия и бунтарских настроений по любому поводу, в первую голову в связи с социальными и национальными проблемами; иногда вызов Гражданской войны и вооруженных восстаний, даже при отсутствии шансов присоединить новые территории к империи, а просто в виде ослабления противника. Все это восполняется раскинутой по всему земному шару сетью шпионажа, которая не только снабжает советскую власть сведениями о планах и средствах действий ее противников, но самым своим существованием, в известной мере даже неизбежными провалами, сеет в их стане недоверие к самим себе и побуждает их к хотя бы частичному отказу от собственных принципов.
Все это хорошо известно, но все же, главным образом, в общих чертах и притом со стороны того, что происходит в стане противников коммунизма, а не в подробностях, не изнутри, со стороны механизма самой деятельности империалистов и их слуг. Некоторый вклад в познание советского империализма в подробностях и притом внутри дает предлагаемая вниманию читателя книга Л.М. Васильева. По существу, — она всего только записки советского ответственного служащего, видавшего виды, сумевшего пройти тернистый путь советской жизни без слишком крупных осложнений и неприятностей — его только «допрашивала Землячка, но ни к какому делу не “пришила”», в конце концов «он перекочевавший из стана коммунистов в стан их противников», но на своем жизненном пути автору многократно приходилось сталкиваться с внутренними проявлениями советского империализма.
Уже в середине 1920-х годов Л.М. Васильеву, тогда молодому консультанту при Наркомфине Узбекской республике, довелось убедиться в двусмысленности советского строительства. Сооружалась гидроэлектрическая станция на реке Чирчик, недалеко от Ташкента; при этом говорилось, что цель — обеспечить искусственными азотистыми удобрениями Среднеазиатское хлопководство; но само месторасположение строительства и некоторые другие обстоятельства заставили автора предположить, что дело не в удобрениях, а в производстве взрывчатых веществ. Впоследствии его догадка оправдалась.
Много лет спустя автору, занимавшему должность управляющего одним из строительных трестов во Владивостоке, пришлось наблюдать странную комбинацию военной подготовки и гражданского строительства. Своих наибольших успехов на службе советской власти он достиг, используя на гражданских работах строительный батальон, находившийся в двойном подчинении — военным командирам и распорядителям строительства.
С места на Дальнем Востоке автору удалось благополучно перевестись в комиссариат боевых припасов в Москве. Заметки его о короткой службе там, а также на заводе в Павлограде, дают ответ на недоуменный вопрос: как это возможно, что та самая советская промышленность, которая так отчаянно плохо справлялась с мирными заданиями, так преуспевает в деле военного производства? Ответ автора, вполне совпадающий с наблюдениями В. Уайта в его превосходном «Отчете о Русских», сводится к следующему. В обеих ветвях промышленности царят диаметрально противоположные порядки; в одной — бюрократическая рутина, боязнь ответственности, страх инициативы, очковтирательство, в другой — четкая и простая организация, инициатива, отсутствие вмешательства сверху; в порядке централизованного отбора, в военную промышленность направляются лучшие силы и лучшее оборудование; в гражданскую — то, что похуже, что не вызывает доверия. Перестроить свою гражданскую промышленность по образцу военной советская власть, по-видимому, не может, за отсутствием подходящих людей и оборудования.
Центр тяжести книги Л.М. Васильева, если рассматривать ее как некоторый вклад в понимание советского империализма, в последних ее четырех главах, посвященных иранской командировке автора, которая длилась с 1943 по 1949 год. За более ранние годы этого периода конъюнктура благоприятствовала советским планам захвата сначала северного Ирана с его богатыми, но не разрабатываемыми нефтяными месторождениями, а затем и всей страны, посредством короткого, но хорошо подготовленного удара в центре. Дело сорвалось: советские войска, занявшие было значительную часть страны, пришлось вывести. Автор, который вполне правильно пишет только о том, что сам наблюдал, не вводит в свой рассказ драматического обсуждения иранского вопроса в Объединенных Нациях (март 1946 г.). За время этого обсуждения выяснилось, что великие державы Запада по этому вопросу не уступят, и под их давлением СССР и вывел свои войска, что он был обязан сделать по договору, подписанному не только СССР и Ираном, но и Англией. В этом эпизоде ярко проступила одна из выше отмеченных черт советского империализма: он продвигается лишь в условиях верной удачи. Кремль уступил потому, что тогда еще не имел в своем распоряжении атомной бомбы, которая была у Америки. Невольно ставится вопрос: не могли ли тогда великие державы Запада, в особенности Соединенные Штаты, провести более активную политику против советских захватчиков, например, ультимативно потребовав, чтобы СССР исполнил свои обязательства не препятствовать установлению подлинно демократических правительств в Польше, Венгрии, Румынии и т. д. Как бы то ни было, с того времени, когда и советская власть обзавелась атомной бомбой, такая политика стала неосуществимой.
История, однако, не закончилась вместе с выводом советских войск из Ирана. Советские империалисты перестроились и попытались добиться своего путем поддержки местного переворота в иранском Азербайджане, а когда и это не вышло, путем подкупа: много советского золота, добытого каторжным трудом на Колыме, перешло в карманы иранских бюрократов и политиканов. Но и это не помогло: меджлис так и не утвердил договор о советской нефтяной концессии на иранском севере. Автор не говорит, почему это случилось. Позволительно выразить довольно циничную догадку: золото, вероятно, текло не с одной только стороны.
Книга Л.М. Васильева обнаруживает, между прочим, спасительную для Запада слабость советского империализма. Иранское действо осуществлялось людьми забитыми и перепуганными, более всего заботившимися о том, как бы в чем-нибудь не попасться и, по возможности, утопить противников и конкурентов, а главное, — не забывавшими о своих материальных интересах. Рассказы Л.М. Васильева о том, как подготовлявшие захват Ирана советские патриоты закупали для себя и своих близких все, что только было возможно, и как они закупленное отправляли домой, напоминают рассказы Оксаны Касен-киной о нравах советской колонии в Нью-Йорке. Упоминаний о подлинном империалистическом энтузиазме в книге Л.М. Васильева не найти.
Книга Л.М. Васильева освещает и еще одно слабое место советского империализма. Это «колониальная эксплуатация», которой советская власть подвергает всех ей подвластных, русских не нерусских, без различия. Пока бессильный, но почти всеобщий протест против этого зажима несомненно является сильным тормозом в продвижении советского империализма и одним из главных побудителей к новой экономической политике Маленкова, Хрущева и К°.
Л.М. Васильеву удалось благополучно выбраться из той человеческой мышеловки, в которой он сам побывал, и поэтому сумел так просто описать ее страшную суть. Но сотни миллионов продолжают в ней томиться и против воли работать на то, чтобы загнать в нее остальное человечество. Пройдет или не пройдет кремлевский план устройства всечеловеческой мышеловки? Все зависит от того, в какой мере народы, в нее еще не попавшиеся, поймут опасность и пойдут на необходимые для ее предотвращения жертвы.
Н.С. Тимашев

Глава I
Большевистский пролог
Вспыхнувшая в 17-м году Февральская революция и по-следовавший за ней переворот и захват власти большевиками провели резкую черту между старой и новой жизнью петербургской интеллигенции, к которой принадлежала моя семья. Мой отец — юрист по образованию — умер, когда я был еще ребенком и влияния на формирование моего миросозерцания он не имел. Это восполнил мой отчим, профессор экономических наук. По своим убеждениям, он принадлежал к уверенным демократам-либералам, а мать, по образованию медичка, была сторонницей социальных преобразований в России.
Я учился в Коммерческом училище, когда революция нарушила весь уклад жизни. Учащиеся встретили новшества, принесенные революцией, с радостью, как обычно молодежь приветствует все свежее и новое, не обременяя себя размышлениями о том, что это даст в будущем.
С особенным восторгом было воспринято слияние нашего училища с родственным женским училищем. Появились девочки в зеленых платьицах и черных передниках. Необычайность этого явления вызвала любопытство со стороны мальчишек — меня и моих сверстников, и повышенный интерес со стороны учеников старших классов.
Преподавательский состав насторожился, а ученики почувствовали веяние свободы, появился какой-то новый оттенок во взаимоотношениях с малодоступной до этого преподавательской средой. Это новое начало складываться в формулу: мы, ученики, хозяева положения, а вы, преподаватели — обслуживающий персонал. Школьная жизнь стала протекать в ином приподнято-возбужденном темпе, а все проблемы казались простыми и ясными — «оковы» сброшены и начинается быстрое восхождение к светлым вершинам счастья.
* * *
На улицах ликующая толпа — самодержавие пало! Дома я слышу непрерывные разговоры о политике и восхищение бравурными и яркими речами Керенского. У меня же имя Керенского ассоциируется только с тем, что отец мой тоже был юрист, как и Керенский и, как хорошо, что наступило такое счастливое время, когда малоизвестный до этого в широких кругах юрист стал управлять государством.
В городе трещат пулеметы. По улицам ведут городовых, избитых и растерянных. Толпа улюлюкает, извергая проклятия по адресу этих «носителей зла».
«Долой полицию! Да здравствует свобода, равенство и братство! Долой войну!» — звучат крики возбужденных людей. На Невском и на Литейном проспектах кто-то засел на чердаках угловых зданий и бьет из пулеметов. Разъяренная толпа — штатские, военные, подростки — выслеживают этих неизвестных, спрятавшихся на чердаках и расправляются с ними самосудом. Жизнь кипит и каждый день приносит все новые и новые вести.
Один из великовозрастных учеников седьмого класса, задержавшийся в училище на несколько лет из-за неуспеваемости, бросил учебу, нацепил на себя погоны с черепами, как зачисленный в какие-то военные «отряды смертников». Всеми забыта его неуспеваемость, он герой сегодняшнего дня, и ученики носят его по залу училища на руках.
Проходит месяц. Дома и в училище появилась, охватившая всех лихорадка подготовки выборов в Учредительное собрание — за какой список голосовать? Особый интерес вызывает список номер пять — большевиков, с крайне левой программой, обещающей землю крестьянам, а фабрики — рабочим, обещающей «мир хижинам и войну дворцам». Вождь большевиков Ленин говорит зажигательные речи с балкона особняка Кшесинской. Море голов жадно ловит его многообещающие слова. А на Невском проспекте мальчишки продают революционные брошюрки и звонкими голосами выкрикивают: «Как Алиса с Распутиным в ванне купалась и на Николая нарвалась!».
Деньги летят «под откос»; вместо копеек нужно платить сотни рублей «дензнаками» Керенского невзрачными двадцати и сорокарублевками. «Чухонка» (финка), поставляющая нам молоко из Перкиярови
[1], перестала уже разрезать полуметровые «полотнища» денег и сует их с пренебрежением в молочный бидон.
* * *
На уроке немецкого языка мой одноклассник и сосед по парте, Виктор, достает тайком из ранца настоящий револьвер-браунинг. Арсенал разграбила толпа, а живущий поблизости от него Виктор со своим старшим братом-большевиком принял участие и завладел этой дивной, в моем понимании, вещью.
Скучный урок немецкого языка перестал меня интересовать. Я сжимаю в руке холодный металл револьвера и думаю: а что если пальнуть в эту долговязую Эрику Александровну, отомстить за все издевательства, за то, что она не раз портила стройный ряд пятерок в моих четвертях. Но в душе сомнение. Может быть, немка и права, что на пять знает только она?
Я возвращаю револьвер Виктору с сожалением — все же такая вещь может пригодиться. Зачем она может пригодиться — мне не ясно, но иметь ее приятно — чувствуешь себя взрослей и независимей.
Еды становится все меньше, а деньги уже измеряются фунтами. Расту я с необычайной быстротой, приближаясь к двум метрам, а топлива — еды, — не хватает. Постоянно хочется есть, мучительно сосет внутри и мешает быть внимательным на уроках математики — Рафаила Александровича. Какая тут геометрия полезет в голову, когда хлебный паек уменьшили до 200 граммов!? Выручают еще завтраки в училище и американская помощь — АРА.
Мы должны проявлять энергичную деятельность на кухне, где готовятся завтраки — принцип самообслуживания нас, учеников, вполне устраивает. Еженедельно, по очереди, до полудня, мы помогаем на кухне нашей школьной румяной кухарке готовить завтраки. Хлеб и форшмак из золотой селедки составляют обычное меню завтраков. Кухарка щедро премирует своих помощников и наесться можно досыта, хоть и хлеб не вполне пропеченный, хоть и форшмак чересчур соленый… Эти дни дежурств на кухне становятся праздничными днями.
Моя ласковая, чуткая мать смотрит на меня с грустью, когда я набрасываюсь на приготовленные ею лепешки из картофеля или из кофейной гущи. Она убеждает меня не покупать на улицах пирожки: говорят, что мясная начинка сделана из человечины. На Клинском базаре торгуют собачатиной. Ярко красные туши навалены на тележки, и этот товар имеет большой спрос.
Преподаватели уже не так строги. Бедный наш математик Рафаил Александрович! Лицо его отекло от голода, он уже не может стоять у доски, ноги распухли, как колоды. Во время дежурства на кухне я вижу, что после окончания завтрака он подбирает крошки с пола.
— У меня двое детей, — говорит он, — приходится их подкармливать своим пайком.
Скоро мы, ученики, шли за его гробом…
* * *
Революция торжествует, начинается террор.
В семье у нас переживают расстрел поэта Гумилева. У отчима большая библиотека. Я достаю томик стихов Гумилева и зачитываюсь его яркими, гармоничными стихами. Новые, страшные, кровавые имена передаются друг другу — гроза Петрограда Розалия Землячка, очевидно, мстит петербургской интеллигенции за покушение Каплан на Ленина.
Мне трудно понять и разобраться в окружающем. Ученики старших классов увлекаются марксизмом. В библиотеке отчима я нахожу «Капитал» Маркса и начинаю изучать: сухой язык, формула. Теории прибавочной стоимости, классовой борьбы и диктатуры пролетариата — даются мне с трудом.
У одного из моих соучеников арестовали и расстреляли отца. В прошлом он — рабочий, примыкал к партии эсеров. Мне непонятны истоки вспыхнувшего человеконенавистничества. Идет Гражданская война и братья убивают друг друга. Я ищу объяснения всему этому в научных теориях Маркса, но они так далеки от окружающей действительности! Я прошу родных объяснить мне, что происходит. Но формальные концепции о диктатуре пролетариата мне ничего не говорят.
* * *
Я учусь и одновременно вместе с семьей изыскиваю способы прокормления. Езжу в Стрельну (под Петроградом), меняю у немецких колонистов вещи на картошку. Езжу и в Тамбовскую губернию и тоже меняю вещи на хлеб. АРА, академический паек и обмен — поддерживают наше существование.
Петроград захирел. На улицах валяются неубранные трупы умерших от голода. На фабриках рабочие делают зажигалки и голодают. Посевы зерновых хлебов упали до 20 % от дореволюционных.
Правительство переехало в Москву.
* * *
Я заканчиваю среднее образование. Работаю на заводе, чтобы иметь производственный стаж на право поступления в высшее учебное заведение.
Правительством объявлена Новая Экономическая Политика — НЭП, — признано необходимым вернуться к старым принципам личной заинтересованности и частной инициативы.
Наша семья переезжает в Москву, и я поступаю в высшее учебное заведение — на экономический факультет Института Народного Хозяйства имени Плеханова.
* * *
НЭП в разгаре.
Театры, кино и рестораны полны. Ожили Верхние торговые ряды, бойко торгуют магазины. Снова появились знаменитые лихачи на породистых рысаках. Вновь запели цыгане в роскошных ресторанах Москвы. По улицам снуют разбогатевшие, хорошо одетые нэпманы. Москва кипит. Но все это больше показное, временное. В воздухе уже нависает что-то гнетущее, давящее.
Хозяйственная экономическая жизнь страны не вошла в нормальные берега, только крестьянство, воспользовавшись «передышкой» НЭПа, стало успешно восстанавливать хозяйство. Сбор зерновых хлебов достиг 70 % довоенного, но развитие общественной промышленности отстает, и ее продукция едва достигла 35 % дореволюционной. Государственный золотой запас истощен и не превышает 10 % довоенного, а золотые монеты царской чеканки служат объектом спекуляции на черном рынке, а не обычной разменной валютой.
Перед коммунистической партией встала проблема ликвидации все увеличивающегося разрыва в ценах на сельскохозяйственную продукцию и на промышленные товары.
Страна вошла в полосу экономического кризиса.
Нужно искать выход — как вырваться из экономического тупика.
Весь ход НЭПа говорит о жизненности форм частнокапиталистического развития хозяйства на основе личной заинтересованности и предприимчивости.
* * *
Большой зал института выглядит не приветливо. Толпа студентов монотонно гудит. Бедно одетые юноши, мало интеллигентных лиц, мало девушек. Основная масса студентов рабфаковцы — рабочие, недавно закончившие Гражданскую войну и засевшие за учебу. В большинстве это усидчивые, упорные парни. Они верят в свои силы и хотят активно участвовать в построении социализма.
После трехгодичного курса обучения экономический вуз выпустит новые сотни «красных купцов», директоров-хозяйственников, плановиков, «банкиров», экономистов и других специалистов для обслуживания первого в мире, сверху донизу регулируемого, планового хозяйства СССР.
Студенты постигают марксистскую идеологию, ее материалистическую сущность. Экономика — базис. Все остальное — надстройка. Только это якобы дает ключ к разрешению всех мировых проблем.
В каком направлении будет развиваться победоносная революция, уже оправившаяся от ран, нанесенных Гражданской войной и периодом военного коммунизма?
На первом этапе победа завоевана. Какой ценой заплачено за эту победу? На этот вопрос профессура не дает ответа.
Выдержки из Маркса заучиваются студентами наизусть. Зазубрить и щегольнуть на лекции цитатой Маркса по памяти считается «хорошим тоном».
Утверждение Маркса о росте народонаселения в условиях коммунистических общественных форм вызывает недоумение у студентов. Группа студентов «Плехановки» принимала участие в подготовке материалов к пятилетнему плану развития промышленности. Один из элементов этой разработки — проблема народонаселения. Материалы Центрального Статистического Управления, проработанные при участии студентов, показывают, что за период (1914–1923 гг.) Россия потеряла 30,5 млн жизней
[2]. Людские потери отбросили страну назад в поступательном темпе экономического развития. Каким же путем пойдет дальнейшее развитие экономической жизни страны?
На очередь поставлена коренная реконструкция всего народного хозяйства. Но откуда взять капиталы? Страна зажата в кольце ненависти, классовой вражды и страха.
Жирные нэпманы, эти «недорезанные буржуи», пользуются благами новой экономической политики. Их сытые лица, бобровые воротники и добротные шубы раздражают суровых победителей Гражданской войны.
Оппозиционная борьба партийных групп захватила широкие круги студенчества.
Какую роль сыграют троцкистская и бухаринская партийные группы в разрешении проблем экономического развития?
Преображенский — теоретик левой оппозиции, — предлагает зажать крестьянство жестокой политикой цен. Но крестьянство составляет 80 % населения. Как будет реагировать крестьянство, требующее золотого денежного обращения, на экономическую экспансию?
Блестящий Бухарин — кумир студенчества, — предлагает иной путь экономического процветания, основанный на свободном развитии, свободно складывающихся цен на рынке и постепенного «врастания кулака в социализм». Какой путь будет выбран?
Эти и другие экономические проблемы волнуют меня и моих друзей однокурсников.
* * *
В зале, на доске объявлений, вывешено сообщение о чистке. До этого циркулировали только слухи. Сообщение это уточнило сроки работы комиссии по чистке.
Официально чистка именуется «академической». Студентам, сдавшим зачеты в пределах установленного академического минимума, беспокоиться как будто бы нечего. Тем не менее, большинство встревожено. Студенты, имеющие связи с партийными органами и связи в Наркомпросе, утверждают, что чистка своим острием будет направлена на студентов, признанных политически не благонадежными. Реакция студентов различна. Часть из них, те, что прошли горнило Гражданской войны, настроены безразлично. Но многие явно приуныли. Очевидно, что основной удар со стороны комиссии будет направлен на студенческую интеллигенцию. По слухам, назначенный председателем комиссии по чистке, Долгов, бывший матрос, имеет уже «установки» партийных организаций о том, кто должен быть вычищен. Невольно всплывают в памяти смелые трактовки перспектив экономического развития, программы «левых» и «правых» теоретиков — Преображенского и Бухарина. Посеяны вражда и страх. Все это будет теперь вариться в котле чистки. Теория классовой борьбы требует жертв…
* * *
Мой ближайший друг по институту однокурсник Леонид совсем упал духом. Он обеспокоен своим не пролетарским происхождением. Его отец в прошлом довольно видный общественный деятель, по политическим взглядам примыкал к партии социалистов-революционеров. Это, конечно, известно комиссии по чистке и может сказаться на судьбе Леонида.
Мы решаем пренебречь лекциями и поехать домой к Леониду. Переполненный трамвай довозит нас до Петровского парка. Дома никого нет, и мы можем, никому не мешая, снова обсудить волнующие нас проблемы.
Вспоминаются наши диспуты с другими студентами о пресловутых «ножницах». Мы с Леонидом сходимся в пессимистической оценке экономической обстановки. Цены на промышленные товары растут, намного опережая цены на сельскохозяйственные продукты. Кривая разрыва ширится. Что дальше? Бюрократизация государственного аппарата управления прогрессирует. Какими путями можно выровнять цены? Вполне очевидно, что партия не откажется от государственной монополии промышленного производства и от вооружений. В этом случае охват всего хозяйства государственными монополиями неизбежен. Что утверждает Преображенский? Монополия, всеобщая государственная монополия позволит проводить политику цен, которая будет лишь другой формой налогового обложения. На разговорном языке это означает провозглашение безудержной спекуляции на ценах.
Непомерно разбухшие расходы на управленческий аппарат и армию можно финансировать только путем все большей эксплуатации населения. Очевидно, что только этот путь остается у советской государственной системы. Неизбежность основных экономических законов будет диктовать и социально-экономическую политику.
Нам представляется, что партия оденет на шею народу монопольную политику цен. Внутрипромышленное накопление будет определяться не качеством и эффективностью работ, а в решающей степени политикой цен.
Всеобъемлющая монополия дает рост бюджетных поступлений.
Крестьянство, лишенное права собственности на землю и орудия производства, будет сломлено, даже если для этого потребуется принести в жертву десяток миллионов жизней зажиточных крестьян. И тогда круг монополии будет замкнут. Конечно, это один из возможных путей экономического развития, но он не единственный. Ленин утверждает: всякая монополия — это застой, загнивание; монополистический государственный капитализм — это военная каторга для рабочих. Подобные высказывания говорят сами за себя, но Ленин тяжело болен, а его смерть может многое изменить…
* * *
Я хожу по залу, ожидая вызова. В одной из аудиторий заседает комиссия по чистке. Возле двери группа студентов, ожидающих своей очереди. Они взволнованы. Один из них, Михайлов, самый красноречивый студент нашего курса. Он полон революционного горения, на семинарских докладах говорит с упоением, захватывая аудиторию смелостью своего поверхностного толкования экономических проблем. Сторонник теории Преображенского, Михайлов ярко рисует заманчивые картины достижения высокого уровня государственного накопления посредством монополий.
Цены. Диктат принудительно низких цен на сельскохозяйственную продукцию и высоких цен на промышленные товары. В этом, по мнению Михайлова, залог успеха и быстрых темпов экономического развития.
Цены — рычаг, который сделает переворот и двинет вперед промышленное развитие и обеспечит торжество коммунизма во всем мире. Организационно сильная партия и борьба с проявлением всякого либерализма в политике плюс диктат цен в экономике, — в этом успех и вершина того здания, которое рисуется его возбужденной фантазией. Видная внешность, приятный голос и манера говорить выгодно дополняют зажигательные речи Михайлова. Ярый враг всякой демократии, поклонник партийной дисциплины, он преклоняется перед силой партийного аппарата.
У доски объявлений комиссии по чистке я вижу Таню К., просмотрев объявление и список студентов, вызываемых в этот день в комиссию, Таня подошла ко мне.
— Сегодня будет решаться судьба — останусь ли я в этих стенах? — сказала она с грустью.
— Мои старики очень болезненно все переживают. Ведь, кроме меня, у них никого нет и нет другого утешения. Я их поддержка и в будущем кормилица. Папино здоровье последнее время из рук вон плохо. В его возрасте трудно работать ежедневно по 12 часов. В Центросоюзе такая неразбериха. Все пишут, море бумажек…
Я стараюсь рассеять ее мрачное настроение. Но у меня самого сложилось впечатление, что партия организует чистку, чтобы посеять страх. Люди те, которые чистят, и те, которых чистят, боятся друг друга. Первые боятся, как бы не просмотреть, кого нужно вычистить, боятся, чтобы их не обвинили выше сидящие. Вторые боятся первых и окружающих. В этом заложено порочное начало во всем, что происходит. Все мы бьемся в силках, расставленных с нашей же помощью. Интриги, доносы, копанье в биографии близких тебе людей, разбор твоего поведения, даже внешности. Деловитость, страшная занятость, а глубже посмотреть — на что уходит время? Тьма разговоров, решений. В институтах, на заводах, в учреждениях, даже в деревнях — везде эти бесчисленные решения и подозрительность. Люди перенапрягаются в сутолоке мнимой деятельности. На всех обрушилась лавина страха и ненависти.
Из кабинета комиссии по чистке вышел Вышинский. Его рыжеватые, коротко подстриженные усы как-то особенно топорщились и пенсне угрожающе поблескивало. Замкнуто и холодно окинул Вышинский взглядом толпящихся у дверей студентов и подчеркнуто деловой, энергичной походкой прошел в кабинет декана. Очевидно, он инструктировал Долгова.
На лекциях Вышинский в ярких красках рисует все эти утопические теории социализма — Фурье, Кампанелла, Томаса Мора и других. Читает он свой предмет — историю развития коммунистических учений — интересно. В прошлом меньшевик, теперь делает карьеру — назначен председателем центральной комиссии по очистке студентов.
* * *
Студенты толпятся перед аудиторией, где заседает комиссия, томясь в ожидании своей очереди. Конвейер из живых тел все подавал новые и новые души к столу Долгова и его помощников. Комиссия все копается и копается в извилинах духовной жизни, заглядывая во все закоулки студенческой души.
Наступила очередь Тани. Как мне больно за нее, больно видеть ее кроткую душу в тисках этих жестоких людей. Для нее все сложится неблагоприятно. Вспомнят и музыку, вспомнят и Есенина. «Интеллигентщина», «социальночуждая» — и приговор готов. Тяжело жить Тане в нашей жесткой действительности! Как может Таня «раствориться» в коллективе? Подчинить себя? Кому и зачем?
Из кабинета комиссии выходит мой однокурсник Борисов. Понять этого человека не трудно. Таким легко в любых условиях. Имеет связи в органах ГПУ. Любит рассказывать таинственно и секретно о некоторых, творящихся там делах. Втерся в доверие вершителей судеб студенчества и участвует в работе комиссии. Лицо его сухое, несмотря на молодость лет, редко улыбается.
С ног до головы во всем кожаном, он, очевидно, заранее нарисовал в своем уме облик верного «солдата» партии и старается строго его выдержать. Личное знакомство с Таней и невольное восхищение ее способностями, вынудило его выйти из кабинета, перед тем, как ее вызывают туда. Даже ему, очевидно, тяжело быть свидетелем расправы над этой девушкой.
«Гранит науки» трогает его мало. Это, как он любит выражаться, только путевка в жизнь. Всем своим «кожаным» видом Борисов подчеркивает свое преимущество перед окружающими.
Проходя мимо меня, он, прищурив глаза, бросает:
— Сейчас твоя очередь. Учти, что Долгов заинтересовался кое-какими твоими теориями. Советую приготовиться.
И Борисов проследовал дальше.
Попытка его показать себя дружески ко мне расположенным не предвещает ничего хорошего. Мне это вполне ясно, но я не так трагически, как Леонид и Таня, переживаю издевательство, называемое чисткой.
Наступила и моя очередь.
Длинный стол, покрытый ярким кумачом. Члены комиссии. Посередине Долгов. Коренастый, широкоплечий, он испытующе окидывает меня взглядом и переводит его на лежащий перед ним список с таинственными пометками.
— Кто ваши родители? — спрашивает Долгов.
К чему этот вопрос — думаю я, ведь ему все это отлично известно из моих документов и анкет, которые лежат перед ним на столе.
— Отец был юристом и умер в 1908 году. Мать вторично замужем. Мой отчим профессор, отвечаю я и добавляю. — Но ведь вам, товарищ Долгов, это известно из документов.
— Где вы родились? — спрашивает Долгов, не реагируя на мое замечание.
— В Петербурге, — это также указано в моих документах.
— Вот ты, Васильев, — старается он сразу подавить меня своим напором, — почему, будучи советским студентом, не состоишь ни в партии, ни в комсомоле?..
Вопрос, на который трудно ответить. Ответить прямо, это означает себя похоронить, уже сейчас, без всякой попытки бороться.
— Членство в партии не определяет еще убеждений человека, товарищ Долгов, — уклоняюсь я от прямого ответа.
— Не определяет! Хорошо! — говорит протяжно Долгов и берет со стола тетрадку. Я узнаю, это конспект моего доклада на семинарских занятиях на тему о нарастающем разрыве на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары. Раствор ножниц на приложенной диаграмме ширится и готов «отстричь голову» советской экономике. Кривая цен на промтовары тянется все вверх и вверх, далеко опережая кривую цен на сельскохозяйственную продукцию.
Я несколько успокаиваюсь. Ему выгоднее напирать на мою беспартийность, — думаю я, — для этого ума и изворотливости не надо. Внешне мое безразличие злит Долгова, а я не могу скрыть своего презрения. Через некоторое время выхожу из долговского чистилища. Меня, по всем данным, вычистят. Какие будут приняты мотивировки, я не знаю, но догадаться не трудно.
Спустя неделю на доске объявлений вывешены списки со 120 фамилиями. Да, я исключен с мотивировкой, как «социально чуждый» и политически неблагонадежный. С такой же мотивировкой исключены мои друзья, Леонид и Таня, а также многие другие студенты. Только незначительная часть студентов исключена с мотивировкой по академической неуспеваемости. Так закончилась «академическая» чистка.
* * *
Леонид в отчаянии. Вечером, возвращаясь домой, захожу к нему. В уютной домашней обстановке еще ярче, в своей нелепости, всплывают эпизоды чистки. Леонид говорит взволнованно, в голосе его звучит мрачная безысходность:
— Дверь в жизнь перед нами захлопнута. Мы «социально чуждые», «политически неблагонадежные». Что будет дальше: это ведь только «преддверие»?..
Я стараюсь его успокоить, стараюсь вселить в него веру в возможность устройства жизни, вне зависимости от «политической надстройки». Нас свалили, но мы должны иметь силу воли подняться на ноги. Надо искать выхода… Но… сам я мало в это верю. Я убеждаю, что есть еще, наконец, некоторая возможность апелляции в центральную комиссию. Ведь за чем-то она создана?
Родители Леонида с обожанием смотрят на сына. Сестренка Наташа висит у него на шее, стараясь своей лаской оторвать Леонида от мрачных дум.
В разговорах о наших делах подходит полночь… С тяжелым чувством, под гнетом мрачных мыслей, я возвращаюсь домой. Мы так и не сумели найти выхода из тупика, куда нас загнала чистка.
Проходят дни. Снова и снова я обдумываю ставший ненавистным мне вопрос устройства жизни.
Часто я начинаю думать, что, может быть, Леонид и прав в своем пессимизме. В голову назойливо лезет эта неотвязная мысль. Несчастный отец Лени, косвенный «виновник» несчастья сына. Думал ли он, рискуя жизнью в революционной борьбе девятьсот пятого года, что это приведет его сына, в конечном счете, к трагедии. Член партии эсеров, отошедший уже давно от политической жизни. И вот теперь… итог: сын — «социально-чуждый элемент». Сколько таких отцов разбросано теперь по России!
А все же бороться нужно!
* * *
Мне стало очевидным, что без влияния со стороны брешь в наркомпросовской бюрократической рутине не пробить. Мое посещение Наркомпроса показало это с полной ясностью. Грязная лестница на всем протяжении трех этажей завалена грудами папок личных дел студентов московских и провинциальных высших учебных заведений, приславших свои апелляции в центральную комиссию по чистке. Некоторые документы высыпались из папок. Проходящие по лестнице топчут их ногами. Только по моему факультету вычищено 120 человек. Сколько же вычищено студентов по всей стране?
Ждать дальше рассмотрения апелляции, в общем порядке, безнадежно. Возможно, и мое личное дело валяется где-то на лестнице. От положительного рассмотрения апелляции будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь.
Надо действовать и искать обходной путь. Нужно использовать связи — всемогущий якорь спасения, и найти неофициальные пути к Вышинскому.
Вышинский — человек с большой политической амбицией, а его быстрое служебное продвижение в Нарком-просе говорит само за себя. Этому не помешало его подмоченное политическое прошлое. Принят он в Наркомпрос через Ходоровского, а потом сплел какую-то интригу и Ходоровского убрал со своего пути. Как к нему подойти? Такой человек не способен проявить простое человеколюбие и помочь.
Друг нашей семьи П.П. Дягтерев говорил мне о Вышинском и его подобострастном отношении к председателю государственного ученого совета, профессору-историку М.Н. Покровскому.
Научный секретарь Государственного ученого совета П.П. Дягтерев, конечно, окажет мне поддержку перед Покровским. Жена Вышинского работает в аппарате ГУСа, в подчинении у П.П. Дягтерева.
Может быть, эта цепь отношений даст то звено, за которое можно ухватиться и добиться восстановления. Нужно взвесить, что окажется сильнее в Вышинском, когда я обращусь к нему с просьбой: желание оказать услугу проф. Покровскому и Дегтяреву или же боязнь взять на себя ответственность за реабилитацию «социально чуждого» студента.
Посоветовавшись с Дягтяревым, мы пришли к выводу, что соображение карьеры могут взять верх у Андрея Яну-арьевича и он пойдет навстречу, игнорируя соображения партийной этики и осторожности. Со слов Дягтерева, я к тому же знал, что Вышинский в домашней обстановке, при встречах с ним, довольно иронически высказывался о многих политических мероприятиях партии. Другого выхода нет, — решил я. Придется обратиться за помощью.
Настал день, когда П.П. Дягтерев просил меня зайти за письмом, которое он написал Вышинскому. В секретариате ГУСа письмо мне передала жена Андрея Януарьевича и заверила, что «Андрей, очевидно, вам поможет».
В письме от имени секретариата ГУСа указывалось, что мое ходатайство о восстановлении поддерживается лично профессором Покровским.
Получив приглашение зайти вечером к ним на квартиру с тем, что бы «переговорить с Андреем», я поблагодарим за внимание и стал готовиться к визиту. Появилась надежда, что может быть удастся закончить учебу и начать практическую работу.
* * *
Вечером я подошел к большому дому в Гнездиковском переулке, где живет Вышинский. На душе неспокойно. Вот и дверь егоквартиры на пятом этаже. Старенькая женщина — мать Андрея Януарьевича, на плохом русском языке, с сильным акцентом, приглашает пройти в его кабинет.
Маленькая квартирка уютно, но бедно обставленная. Вышинский любезно улыбается. Вскрыл конверт и стал читать. Несколько вопросов по существу чистки и о позиции Долгова.
— Да, напрасно вы высказывали свои откровенные мысли об оппозиционных теориях, — говорит Вышинский. — В письме Петр Петрович от имени проф. Покровского просит рассмотреть вопрос о вашем исключении. Но ведь это не от меня зависит, — добавляет он.
Я недоумеваю. К чему он это говорит. Ведь его слово решающее.
— Я могу только написать свое мнение в центральную комиссию, — усмехаясь, говорит Вышинский.
Он не отказывается, значит, есть надежда. Вышинский пишет письмо и вручает мне незапечатанный конверт.
— Не унывайте, — говорит Андрей Януарьевич и пожимает мне руку.
Не терпится узнать, что он все-таки написал? При свете тусклой лампочки на площадке лестницы, я читаю: «Знаю товарища Л.М. Васильева, как способного студента. Рекомендую рассмотреть его ходатайство о восстановлении».
Написано дипломатично, но все же слова «знаю» и «рекомендую», адресованные членам центральной комиссии самим же председателем комиссии, звучат, как мне кажется, убедительно.
С утра на другой день я вновь поднимаюсь по знакомой лестнице Наркомпроса. Минуя бесконечную очередь студентов, добивающихся приема, я подхожу к секретарю центральной комиссии. Прочтя письмо, она дружески улыбается и говорит:
— Вам придется самому поискать свое личное дело. Видите, что у нас творится?
После долгих поисков, я, наконец, нахожу и вручаю свое дело секретарю.
— Надеюсь, что сумею завтра доложить членам комиссии ваше ходатайство, — обращается она ко мне.
Гора свалилась с моих плеч. Рассмотрение апелляции затягивается месяцами, а тут вдруг — завтра.
Через два дня я получаю выписку из протокольного решения центральной комиссии о моем восстановлении в правах студента.
Протекция Вышинского сыграла решающую роль во всей моей дальнейшей судьбе. Чистка стала перевернутой страницей жизни.
Леонид и Таня не были восстановлены в правах студентов, хотя и подавали апелляцию Вышинскому.
* * *
Чистка налетела как шквал, разметала, выбросила несколько десятков человек за борт институтской жизни.
В занятиях, особенно на семинарских проработках, стала чувствоваться большая сдержанность в высказываниях по политико-экономическим проблемам. Студенчество замкнулось в себе. Критические высказывания прекратились не только в официальной обстановке, но и в беседах в узком кругу.
Несомненно, что эта сторона чистки не только не была неожиданностью для ее инициаторов, но и сознательно ими преследовалась. Уже до чистки было вполне очевидно, что вся идеологическая сторона жизни совершенно сознательно вводится партией в «берега» страха и безропотного подчинения.
У студенчества создалось настроение безрадостности, исчезло всякое желание вносить что-то свое индивидуальное в проработку экономических проблем. Академическая жизнь замкнулась в рамки каменного мышления. Нужно было искать «отдушину» для того, чтобы как-то восполнить этот пробел. Помогли мне в этом условия, в которых находилась общественная организация Доброхим.
В этот период правительственные органы придавали особое значение развитию химической промышленности и укреплению военной мощи. Добровольное Химическое Общество, или сокращенно Доброхим, призвано популяризовать среди населения химию, как это официально трактовалось, столь необходимую для развития сельского хозяйства и гражданской промышленности. В нашем институте, параллельно с инженерно-экономическим факультетом, существовал и инженерно-химический факультет. Правительственные органы решили привлечь студенчество к выполнению задачи популяризации химии и активизировать приток средств от населения на развитие индустрии и военные мероприятия.
Председателем общества Доброхим назначили Льва Давидовича Троцкого, в это время председателя Реввоенсовета, а председателем финансовой секции Доброхима состоял Владимир Николаевич Ксандров, он же председатель Промбанка СССР. Самое назначение Троцкого в качестве главы Доброхима говорило о том значении, которое придавалось его мероприятиям. Профсоюзная организация института выдвинула мою кандидатуру для работы в финансовой секции центрального совета Доброхима.
Ксандров оказался удивительно приятным человеком, и работать с ним было легко и интересно. Член коммунистической партии с 1905 года, Ксандров представлял ленинскую плеяду талантливых большевиков. Его манера держаться очаровывала своей простотой. Ко мне он отнесся отечески, заявив, что он очень занят и, к сожалению, не может уделить должное внимание Доброхи-му, а просит меня взять финансовые дела этого общества в свои руки.
Ксандров работал по 18 часов в сутки, кроме того, ему мешало работать больное сердце. Все общественные дела Доброхима Ксандров разрешал оперативно. Бывало, в его приемной в банке, я заставал по несколько десятков деловых людей, но неизменно он вызывал меня вне очереди и, добродушно улыбаясь, подписывал нужные письма и выслушивал предложения. Позднее на своем жизненном пути я не раз вспоминал этого обаятельного человека и думаю, почему же такие руководители не встречаются в советской системе сталинской формации.
Председатель общества Взаимного кредита и заместитель Ксандрова по линии Доброхим — Чегодаев, князь по происхождению, был человеком совершенно иным. Тоже старый большевик, Чегодаев, по внешности и манере держаться, являлся типичным русским аристократом. В этот период развития НЭПа партия находила выгодным «держать» Чегодаева на том участке, где важно было наладить контакт с предпринимательскими кругами. Чегодаев это выполнял, как я это наблюдал, весьма успешно. Общество Взаимного Кредита, пользуясь финансированием Промбанка, развернуло широкие кредитные операции и нэпманы наполнили приемную Чегодаева.
Такое сочетание, как Ксандров и Чегодаев, давало возможность понемногу «потрошить» нэпманов и выкачивать из них всякими способами средства для нужд Доброхима.
Немаловажную роль в этом «выкачивании» играли и такие мероприятия, как устройство благотворительных спектаклей.
Работу эту было легко наладить. Аппарат Промбанка и общества Взаимного Кредита (кассиры), по приказу Ксандрова и Чегодаева, безропотно выполняли их веления и, при выдаче денег нэпманам, попутно «ощипывали» их на благо Доброхима.
По характеру своей общественной деятельности, я столкнулся с несколькими интересными людьми. Одним из первых моих мероприятий было «использовать» Л.Д. Троцкого.
Нужно сказать, что в этот период — конец 1924 года — после смерти Ленина, Троцкий подвергся резким нападкам со стороны секретариата ЦК партии. Меня поразила та простота, с которой принял меня знаменитый Троцкий в своем кабинете в Реввоенсовете. Он выслушал мою информацию, приветливо посмотрел через пенсне и дал согласие выступить перед спектаклем в Большом театре с докладом о международном положении. Когда вышли афиши с указанием, что выступит Троцкий, билеты по повышенным ценам были распроданы с молниеносной быстротой. Публику, конечно, интересовала не опера «Аида», а выступление Троцкого. Утром в день спектакля позвонили из секретариата Л.Д. и предупредили, что Троцкий выступить не сможет.
Через несколько дней Троцкого сняли с поста председателя Реввоенсовета. Позже выяснилось, что ему запретил выступать Центральный комитет партии. Когда сообщили, что Троцкий не выступит, публика пришла в бешенство, но билеты на спектакль были куплены и деньги остались в кассе.
По делам Доброхима мне пришлось уже обратиться к новому председателю Реввоенсовета — Фрунзе. В том же громадном кабинете, где раньше сидел Троцкий, за большим столом, маленький, довольно сухощавый Фрунзе, показался мне каким-то несчастным. Вскоре после его загадочной смерти на операционном столе, я часто вспоминал впечатление первого к нему визита: большой стол, красные полотнища суконных драпри и хрупкий, печальный Фрунзе за столом.
Этот человек, по своей манере держаться, полная противоположность наркома просвещения Луначарского. Тоже по делу Доброхима, мне пришлось встретиться с Луначарским в домашней обстановке. Он просил заехать к нему на квартиру, чтобы согласовать с ним его выступление в пользу Доброхима. В квартире, обставленной слишком вычурно, меня встретил человек в шелковом халате, с холеной внешностью богатого нэпмана. Это и был нарком просвещения А.В. Луначарский.
Его выступления собирали массу народа. Его эрудиция проявлялась, как в выступлениях на диспутах с митрополитом Введенским, на религиозные темы, так и в выступлениях об искусстве, музыке. Разносторонние знания и образованность Луначарского были общеизвестны, и он пользовался большой популярностью среди студенчества. Помню, когда Луначарский пожал мне приветливо руку в присутствии толпы студентов, это вызвало всеобщую зависть.
Благодаря общественной работе, мне пришлось столкнуться с такими выдающимися артистами Художественного театра, как Качалов и Москвин. В.И. Качалов принял меня необычайно просто и мило. Постройка, где находилась квартира В. И., была старинной, и помещения сохранили дух патриархальности. В маленькой квартире, где он жил, во дворе Художественного театра, царила атмосфера театра — было скромно и уютно. Он шутил, что наши две крупные фигуры едва помещаются в его кабинете.
* * *
Волна морозов надвинулась на Москву в 1924 году. Казалось, что необъятная Сибирь стала диктовать свои законы столице и хочет выморозить все живое.
В один из январских студеных дней газеты оповестили: «Умер Ленин».
В голове вспыхнули разные предположения.
Ленин цементировал партию, умел выигрывать бои на партийной арене, убеждая своих противников логикой и подавляя авторитетом. Ленин определял как барометр погоду, степень политического накала и умел лавировать, предвидя грядущее. Его «нэповский зигзаг» спас партию от неминуемого банкротства и краха.
Сумеет ли новый партийный вожак вести страну по нужному пути, не вступая в конфликты с желаниями, верой и правдой народа? Всякие предположения бурлили в наших юных головах и жарко обсуждались. Стужа не умерила горячности, и мы с Леонидом решили пойти взглянуть на то, что осталось от Ленина, на его труп, выставленный в колонном зале Дома Союзов.
Большая очередь любопытных, почитателей и противников ушедшего из жизни вершителя судеб России растянулась по Большой Дмитровке и прилегающим улицам на километры. На улицах разложены костры. Люди выбегают из очереди — погреться. Очередь ползет шаг за шагом к цели — к трупу.
Не смолкает гул голосов толпы. Мне невольно вспоминается Петроград 1917 года, балкон особняка Кшесинской и тот же гул голосов толпы. Как мало прошло времени, кажется, что это было чуть ли ни вчера, — так свежо еще все в памяти.
Но как много воды утекло!
Н сколько «утекло» людских жизней!
В уме встают цифры статистики — за период 1917–1923 годов погибло 30 млн жизней. Что даст еще России и миру ленинский эксперимент?
Людское море улеглось. Внутри клокочет, но поверхность, залитая кровью Гражданской войны и репрессий, спокойна.
Какие шквалы придется этому «русскому морю» перенести впереди?
Подорваны устои брака, разрушена семья, упразднен принцип личной заинтересованности, уничтожены предпринимательские круги — люди инициативы, погибли десятки миллионов жизней. А что конструктивно нового, положительного создано? Мертвые формулы грядущего эфемерного счастья?
Мне вспоминается одно из изречений Ленина: «Производительность труда, это в последнем счете, самое важное, самое главное для подъема нового общественного строя. Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создаст новую, гораздо более высокую производительность труда»
[3].
Самое важное!
Да. В области экономического развития это самое главное богатство нации; уровень жизни всех нас в конце концов определяется уровнем производительности. Но даст ли новая — коммунистическая форма общественного устройства — увеличение производительности?
Правильно ли было ломать все устои жизни общества во имя этого призрачно возможного увеличения «производительности»?
Во всяком случае, на первых порах развития новых форм оказалось, что производительность резко упала, особенно в промышленном производстве. Захочет ли, и правильно ли, чтобы крестьянство взяло на свои харчи нового «гегемона» — рабочий класс?
Очередь ползет. Скрипит под ногами снег. Наша соседка по очереди — старенькая, лет семидесяти крестьянка, — с трудом переставляет свои громадные валенки — «броненосцы». В бараньем зипуне и с большой теплой шалью на голове, она, видимо, чувствует себя на морозе, как дома. Ее умные старческие глаза часто останавливаются на наших лицах. Неожиданно она бросает фразу, обращаясь ко мне с Леонидом: «Вот мой старик не так давненько был у Ленина, а теперича и старика я похоронила, и Ленина хороним. Сама что-то задержалась на этом свете. Ну, да на это воля Господа». Движение в очереди сразу приобрело для нас интерес. Зачем был у Ленина старик?
И мы дружно набросились на старушку с вопросами.
Она оправила шаль, свисавшую ей на глаза, и не без самодовольства поведала нам о путешествии ее старика из какой-то деревушки под Тамбовом на прием к Ленину, в Кремль. Со слов старушки, путешествие это произошло в 1921 году, вскоре после Кронштадского восстания. Старик был вызван местными властями и отправлен для беседы с Лениным в Москву. Старушка уверяла, что вся деревня переполошилась и дала «делегату» строгий наказ, о чем говорить и на чем настаивать перед Лениным. «Требования», — как она рассказала, были незамысловатые: ввести золотое обращение, чтобы крестьянин знал за что продает, а то сегодня продал пуд пшенички, а на завтра на эти деньги и полпуда своих не вернешь. — Крестьянка оживилась, когда заговорила о золотых деньгах, а лицо ее приняло строгое выражение. Сосед по очереди, прислушивавшийся все время к нашему разговору, вдруг, неожиданно обратился к ней с вопросом: «Бабка, а что крестьяне против коммунии?» — Бабушка, прищурив глаза, слегка подумав, сказала: «Да, как сказать — против, крестьяне хотят работать и жить так, чтобы им не мешали, чтобы коммунизма была отдельно от нас, крестьян». Вторым требованием было выставлено, — чтобы крестьянин имел право продавать и покупать землю. И, наконец, третьим, — чтобы крестьянин знал, какой он налог должен будет заплатить «наперед на год». Старушка долго сетовала, что стара, сеять не может, а «землицу ни в аренду не сдай, ни продай, потому, говорят “народная”, а какая она “народная”, когда мы с мужиком ее наживали».
Леонид попытался развеять ее печаль, заметив: «Теперь ведь, бабушка, деньги хорошие — червонцы». Но она только с прискорбием махнула рукой: «Какие же они “хорошие”, когда пуд пшеницы продашь, а за эти деньги не купишь и половину того ситчика, что в старое время». Мы не стали, конечно, «просвещать» бабушку и объяснять ей проблему себестоимости в государственной промышленности, политику цен и прочие атрибуты рыночного ценообразования. Да и зачем это все знать старенькой бабушке? По-своему она, конечно, была права. На старости лет ей выпала тяжелая доля — побираться у соседей. А удачей оказалась только поездка в Москву, за счет средств рай кома партии, пославшего ее «проститься с Лениным», как жену старика «визитера».
Подошла и наша очередь.
Широкая белая лестница, ели, хрустальные люстры в траурном крепе, шеренги милиции, траурные, обвитые крепом, красные знамена.
В лицо пахнуло терпкой, жаркой духотой зала. На высоком катафалке маленький, щупленький Ленин. В голове мелькает мысль — каким он кажется сейчас ничтожным!
* * *
«Карающий меч революции»!
Вспомнились мне избитые, заезженные пропагандой слова, когда мой родственник и большой друг, — член президиума ВСНХ, — позвонил мне по телефону и сообщил, что достал для меня пропуск на право присутствовать на расширенном совещании президиума ВСНХ с местными работниками.
Дзержинский!
Это имя олицетворяет «Карающий меч революции».
Сколько крови русских людей на совести этого человека?
Теперь этот кровавый чекист — председатель ВСНХ. Теперь он — вершитель судеб промышленности. Увидеть Дзержинского в новой роли мне представлялось больше, чем интересно. Изучение проблем промышленного развития затрагивало целый комплекс вопросов, связанных непосредственно с жизнью всего населения. Ни днем, ни ночью, в институте и дома, я не мог найти покоя в поисках ответа на волнующие меня вопросы.
А тут вдруг такая возможность — увидеть, услышать, окунуться в самую гущу людей, стоящих во главе промышленных предприятий страны. Не хватает слов, чтобы передать, с каким нетерпением я ждал этого дня — 3 декабря 1924 года — дня открытия совещания.
Что скажет Феликс Дзержинский?
Карать — одно. А как он думает наладить работу отстающей по всем показателям от дореволюционного времени, монополизированной государственной промышленности?
Захочет ли Дзержинский быть откровенным?
Зал заседаний, вмещающий несколько сотен человек, был набит до отказа съехавшимися с мест работниками аппарата управления. За большим столом разместились члены президиума ВСНХ.
Стремительной, нервной походкой вошел Дзержинский. Все встали, приветствуя его.
Дзержинский начал доклад.
Нужно отдать должное, докладчик сумел «переварить» тот материал, который ему подготовили экономисты ВСНХ. В коротких, сжатых формулировках Дзержинский дал характеристику основных «болезней»: бюрократизации управления, падения производительности труда, роста себестоимости промышленной продукции и разрыва в ценах («ножниц») на сельскохозяйственные и промышленные товары.
Дзержинский обратил внимание присутствующих на «потрясающую нищету и потрясающее уменьшение потребления» по основным промышленным товарам первой необходимости. Анализируя организацию промышленного производства в условиях советской промышленной монополии, докладчик привел цифры падения выработки на одного рабочего по сравнению с 1913 годом в среднем в 2–2,5 раза по одиннадцати решающим отраслям производства. Одновременно он указал, что себестоимость продукции по всей промышленности также резко возросла по сравнению с уровнем себестоимости в дореволюционной России.
Хотел этого докладчик или нет, но весь его доклад оказался построенным на аргументировании известного высказывания Ленина, что: «Всякая монополия порождает неизменно стремление к застою, к загниванию. Поскольку устанавливаются, хотя бы на время, монопольные цены, исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а следовательно, ко всякому другому прогрессу, движению вперед. Свободной конкуренции соответствует демократия. Монополии соответствует политическая реакция»
[4].
Доклад Дзержинского не внес ничего нового в мое понимание создавшейся обстановки в экономическом положении страны, но услышать от одного из творцов системы государственной монополии о ее загнивании, для меня представлялось достаточно знаменательным.
Мне было известно и без доклада Дзержинского, что потребление 19 главнейших товаров упало в 1924 году, по сравнению с 1913 годом, более чем в два раза, а индекс цен на промышленные товары разорвался с индексом цен на сельскохозяйственные товары почти на 40 %.
Таким образом, промышленность «уселась на крестьянский горб». Я искал в докладе Дзержинского ответа на то, какими мерами он думает вывести хозяйство из того тупика, в который его загнала партия. На этот основной вопрос я ответа в докладе не нашел.
В его речи прозвучало фальшивое утверждение, что «темп на накопления в промышленности зависит от общего роста производительных сил страны и, в особенности, от крестьянского хозяйства и накопления в пределах этого крестьянского хозяйства».
О каком «пределе» накопления в промышленности в зависимости от накопления в крестьянском хозяйстве мог говорить именно Дзержинский, когда он же проводил политику ограбления крестьянства в силу самой системы организации промышленного производства на основе бюрократического государственного централизма. В докладе меня поразили определенно пессимистические нотки, которые в нем звучали. Я смотрел на серое, нервно подергивающееся лицо этого убийцы, и мне казалось, что Дзержинский на своем новом посту ясно понял, что убивать легче, чем созидать. Выступления работников с мест и их перепевы речи Дзержинского интереса не представляли. После закрытия конференции я ушел с чувством подавленности, понимая, что выхода из тупика нет.
В июле 1926 года умер Феликс Дзержинский. В этом же году изданы материалы о работе конференции
[5].
* * *
Относительная терпимость, которая еще существовала в партийных кругах, со смертью Ленина пошла быстро на убыль. С этого года началось все большее и большее «завинчивание гаек», все большее нарастание репрессий и произвола власти по отношению к населению.
Год 1924-й — смерть Ленина — явился водоразделом между двумя периодами коммунистического эксперимента в построении бесклассового общества. Политическая программа партии была сожжена самим процессом развития не оправдавшегося эксперимента, а пепел партийных догм развеян ветром истории.
Партия превратилась в привилегированную безыдейную олигархию, возглавляемую группкой беспринципных кремлевских дельцов.
Всеобъемлющее монополистическое начало в социально-экономическом устройстве общества привело к развитию процесса «загнивания» во всех областях жизни общественного организма. Привело к торжеству идеи ультраимпериализма к идее насильственного выравнивания социально-экономической системы на арене мирового хозяйства, как единственному выходу из политического и экономического тупика.
Вехами этого процесса явились: ликвидация сопротивляющихся идейных групп партии; разгром профсоюзов и осуществление потогонной системы эксплуатации рабочих; насильственная коллективизация и превращение крестьян в государственных батраков; введение системы каторжного концлагерного труда; спекуляция государства на товарах первой необходимости и снижение прожиточного минимума населения в интересах омертвления основной части национального дохода в вооружениях; развитие процесса загнивания в сельскохозяйственной экономике и обрабатывающей промышленности; создание пятых колонн за пределами страны и проведение мероприятий по подрыву социально-экономических устоев демократических стран.
* * *
После окончания института в 1926 году передо мной встала задача выбора моего делового пути. Под влиянием «смуты», царившей в столице, и по совету близких моих друзей, я решил поехать на пару лет работать на периферию, в одну из республиканских столиц, где, как мне казалось, вдали от московской бюрократии, поле деятельности будет шире.
Вместо двух лет, мне пришлось проработать в столице Узбекистана девять лет и сродниться с жизнью этого края и его людьми.

Глава II
Гнет бюрократизма
Получив назначение, я по путевке отдела кадров наркомата выехал в Среднюю Азию.
Мне не хотелось оставаться работать в центральных органах Москвы, хотелось поработать там, где ощущается недостаток в специалистах, где не так будет стеснена инициатива «молодого советского специалиста», как нас называли на выпускном вечере в институте.
Средняя Азия в то время казалась очень отдаленной частью СССР — местом ссылки, экономически и культурно отсталым районом. Тем не менее, атмосфера в институте и столице заставляла искать какого-то выхода — работа на далекой окраине казалась мне таким выходом.
В недалеком прошлом произошло размежевание национальных республик Туркестанской ССР, и я ехал на работу в Узбекскую ССР, на должность консультанта отдела промышленности и торговли Народного Комиссариата финансов.
Столица Узбекистана — Самарканд, в последние годы НЭПа типичный восточный город, — европеизированный центр и средневековые окраины. Можно было часами ходить по узким улочкам и видеть только глиняные стены домов и садов, вся жизнь таилась за этими стенами в маленьких тенистых садах, орошаемых ручьями.
Над городом сине-голубое небо — яркое, как на картинах Верещагина. Такое яркое, что весь город и новый, и старый, становился удивительным, ни с чем несравнимым. Лазоревая даль неба, желтые глиняные стены и яркая зелень садов, бирюзовый купол пятисотлетней мечети-усыпальницы завоевателя Тамерлана, синевато-зеленые, пестрые изразцы минаретов мечети Шахи Зинда, яркие шелковые халаты гордых узбеков, таинственные фигуры женщин в национальных чадрах-паранджах, верблюды с величественной поступью, снующие по улицам маленькие серые ишачки, гортанный шум восточного базара — все это обаяние Востока радовало меня и влекло к себе.
Поселился я в европейской части города, в доме с большим тенистым садом. В Узбекистане того времени мало знающих местных руководящих работников и почти не было квалифицированных специалистов. За исключением европейски образованного председателя Совета Народных Комиссаров Файзулы Ходжаева, руководящие посты народных комиссаров занимали выдвиженцы узбеки-партийцы, аналогичное положение было и в РСФСР, но далеко не в такой степени.
Благодаря малой подготовленности узбеков-наркомов, главная часть работы лежала либо на их заместителях, либо на консультантах и заведующих отделами. Сосланные сюда оппозиционеры, в значительной части, люди энергичные и образованные, обычно и занимали эти второстепенные, но ключевые с точки зрения работы учреждений должности.
Во главе Наркомата финансов стоял узбек Пулатов. При первом же свидании с этим обрюзгшим, лысым, квадратным человеком, я понял, что руководить работой он просто не в состоянии, хотя и имеет кое-какое общее образование. Заместителем Пулатова был русский — Иван Васильевич Гончаров. Бывший учитель, вполне интеллигентный человек, Гончаров фактически вел всю работу наркомата. Длинные русые волосы, мягкая походка, сутуловатость и вкрадчивая, дидактическая манера говорить — подтверждали его прошлую специальность. Гончаров был ярким представителем коммунистов-энтузиастов первых лет революции.
Непосредственный же мой начальник — Козлов — больше походил на Пулатова, чем на Гончарова, поэтому мне сразу же пришлось ориентироваться в работе на заместителя народного комиссара.
Козлов, мало вникая в существо работы, больше любил выступать на собраниях и сидеть в президиуме. Главным способом выражения несложных мыслей Козлова — «так сказать». Зато Козлов всегда придерживался генеральной линии партии и не был способен вольнодумствовать. Последняя способность делала его служебное положение достаточно прочным. Служебная иерархия была довольно многоступенчатой. Обычно то или иное решение по какому-либо финансовому мероприятию требовало длительного согласования и приходилось подписывать бумаги или собирать визы о согласовании проекта у трех-четырех человек и только после этого идти обсуждать дело по существу с заместителем народного комиссара.
Надо сказать, что даже способный, образованный и быстро соображающий Гончаров не любил решать дело сразу.
— Пусть вылежится. У меня английская система, — шутил Иван Васильевич и глядел на меня, улыбаясь своими добрыми серыми глазами.
Такая проволочка вредила делу, и я, по своей неопытности и горячности, осуждал тогда в душе Ивана Васильевича за нерешительность. Позднее я понял, что иначе поступать он не мог. При любом решении надо было думать не столько о самом деле, сколько — будет ли это соответствовать директивам сверху.
Учесть же возможные зигзаги партийных директив бывало трудно и иногда приходилось решать головоломку, как провести совершенно необходимое мероприятие, не нарушая в то же время директив.
Аналогичное положение было и в Наркомате промышленности Узбекистана. Наркомом там был необразованный и ленивый узбек Якубов. Заместитель его, русский-выдвиженец, мало чем отличался от своего шефа, а всю работу вели высланные из Москвы оппозиционеры Кауфман и Молочников. Формально Молочников возглавлял планово-финансовый отдел, фактически же — весь народный комиссариат. Ему в то время было около пятидесяти лет. Жил он замкнуто холостяком. Не следил за своей внешностью, видимо, переживая свое положение, нервничал и курил папиросу за папиросой, зажигая новую от докуренной старой.
Этот умный и образованный человек тяготился нелепыми условиями работы и невозможностью влиять на экономическую политику партии, которая вела население Узбекистана к нищете и разорению.
Сразу по приезде я занялся изучением экономического состояния узбекской промышленности, сельского хозяйства и финансовых проблем, связанных с развитием этих отраслей.
Пресловутые «ножницы», которое так волновали умы студентов института, здесь в Узбекистане особенно угрожающе раздвинули свои концы.
В условиях Узбекистана преобладало сельское хозяйство, а промышленность носила преимущественно характер обработки сельскохозяйственного сырья. Можно без преувеличения сказать, что дехканин (крестьянин) Узбекистана, благодаря политике цен, получал за свой труд, за свою продукцию в два с лишним раза меньше, чем в дореволюционной России. Между государственными органами и дехканством поэтому шла не утихавшая борьба. Цены на хлопок-сырец были установлены на уровне дореволюционных (т. е. 4 руб. — 4 руб. 50 коп. за пуд), а цены на хлеб были подняты в 3,5 раза против довоенных. Хотя посев и обработка хлопка требовали в четыре раза больше труда (полив, окучка), государство отбирало хлопок у дехкан по цене один к одному по отношению к пшенице.
Подобная политика проводилась и по промышленным товарам. Так, например, на хлопчатобумажные ткани цены подняли в 4–5 раз. Объяснялось это положение весьма просто. Государство объявило хлопок «монокультурой», т. е. запрещало сеять хлеб; ткацкие кустарные станки крестьянину также запрещалось иметь под страхом уголовного наказания. Государство торговало, продавая хлеб и текстиль крестьянину по повышенной цене, а крестьянин торговал, продавая государству хлопок по пониженной цене.
Подобная экономическая политика напоминала народную сказку о «вершках и корешках». Сказка эта, как известно, рассказывала о договоре между крестьянином и медведем для совместной обработки земли и дележе урожая между ними по принципу — одному вершки, другому — корешки. Причем, что бы они ни сеяли — выигрывал не медведь, а смышленый крестьянин, забирая себе — при посеве пшеницы — вершки, а при посеве репы — корешки.
Государство в данном случае успешно выступало в роли хитрого крестьянина, отбирая у наивного медведя-дехканина и «вершки, и корешки».
Государство спекулировало, а крестьяне нищали. Естественно, что такая «коммерция» вызывала постоянное недовольство узбекского дехканства. Крестьяне восставали, их усмиряли, они снова восставали, их снова усмиряли. Но этому, вплоть до сплошной коллективизации, узбекское дехканство все время кипело в котле восстаний.
Так называемые «басмачи» не давали покоя партии и правительству. Целые крупные воинские соединения Красной армии выступали зачастую в поход для усмирения восставших басмачей-крестьян.
Крестьянство отвечало на зажим все новыми восстаниями. О брожениях крестьянства не разрешалось говорить, но скрыть это от населения власть была не в силах. При подавлении восстаний, партия всегда старалась использовать, не в полном смысле национальную вражду, но все же разделение на национальности. Полицейские воинские части, посылаемые на усмирение узбеков, состояли преимущественно из киргизов или туркмен.
* * *
Мои деловые экономические предложения, естественно, могли сводиться только к узкой сфере рационализации работы на отдельных участках: как, например, на повышении эффективности в работе промышленных и сельскохозяйственных предприятий, по выработке мероприятий для развития отдельных отраслей промышленности. Ряд моих предложений нашел одобрение и поддержку в узбекском Госплане и Совнаркоме.
В Госплане начальником отдела промышленности и торговли работал весьма способный и энергичный молодой специалист, получивший недавно высшее образование, Майзель.
Проведение в жизнь наших предложений не могло влиять на общее развитие коммунистической политики, направленной на еще больший зажим крестьянина жестокой политикой цен.
В таком же положении, как и узбекское, находилось, конечно, и русское крестьянство, с той лишь разницей, что у него государство приобретало по довоенным ценам хлеб, платя 1 рубль 20 копеек за пуд (пшеницы) и продавая ему текстиль и другие товары по индексу 4–5 к дореволюционному.
А «социалистическое» правительство продолжало «накоплять», чтобы строить «фараоновы пирамиды» и содержать грандиозную военно-полицейскую машину.
Партийный и государственный бюрократический аппарат пожирал все больше средств. В каждом наркомате на одного действительного работника приходились два, а то и больше аппаратчиков, неспособных выполнять возложенную на них работу.
Мне было ясно еще в Москве, что выхода из этого тупика нет, так как монополизацию всего народного хозяйства государством партия добровольно не отменит.
До проведения принудительной коллективизации экономические трудности и бесправие крестьянства проявлялись в полной мере, но внешне жизнь населения шла, более или менее, нормально — никто не голодал, базары были полны продуктами, город пестрел узбеками, гарцующими на кровных арабских жеребцах, в чайханах (ресторанах) бойко торговали шашлыком и зеленым кок-чаем. Однако это была лишь внешняя сторона, а глубокие порочные экономические корни оставались скрытыми.
В 1926–1928 годах партия вновь начала решительную борьбу с крестьянством, что и было завершено сплошным обатрачиванием крестьянства, или «сплошной коллективизацией». Зажиточные свободные дехкане пытались стать на путь борьбы, но были разгромлены. Этот процесс постепенного сползания к тоталитарному военно-полицейскому государству особенно ярко проявлялся в экономической действительности Узбекистана в период моей работы в 1926–1935 годы.
* * *
Иногда вечерами я сидел в саду своего дома и, наслаждаясь прохладой, слушал шум восточного города. Доносится резкий гул — ху, ху, звук барабана и узбекской флейты — это театральные гарольды извещают о начале представления. Их трое, один с барабаном, другой с флейтой и третий, падающий пронзительный вопль с помощью большой деревянной трубы. Труба эта около трех метров длины, узкая у основания и расширяющаяся в конце. Трубу нелегко поднять, еще труднее на ходу издавать призывные звуки, но слышна она на весь город.
Самое представление происходит на площади — борются несколько пар борцов, канатоходцы ходят по канату, протянутому между высокими столбами, с длинными шестами в руках. Предохранительных сеток нет.
Помимо этого, чистого народного развлечения, в городе есть два кинотеатра. Идут обычно советские фильмы, но если появляется картина заграничная, кинотеатр набит битком жадной до этих зрелищ толпой.
Весной и летом гастролирует не плохая оперетта, где появляется аккуратно вся партийная и правительственная верхушка.
По пятницам (мусульманское воскресенье) я хожу пить чай к своему узбекскому другу Турсункулову. Это простой узбек-дехканин. Живет он в пригороде Самарканда, в типичном доме-крепости. Двор окружен забором, значительно выше человеческого роста. Забор — по-узбекски дувах — сделан из глины и сложен кверху конусом. Глину долго квасили с резаной соломой. Крыша у дома Турсун-кулова тоже глиняно-земляная, как и на большинстве узбекских построек. Толстые стены, земляная крыша и пол сохраняют приятную прохладу, а чистота и опрятность создают уют в доме гостеприимного Турсункулова.
В саду хоуз (пруд), на берегу по углам растут четыре больших карагача, листва их так густа, что совсем не пропускает палящего узбекского солнца. Мурчит монотонно ручей, впадая в хоуз.
Турсункулов выносит поднос с чашками-пиалами без ручек, сласти и фарфоровый чайник с зеленым кок-чаем. Приятно видеть его представительную внешность, седую кругло-подстриженную бороду, вкрадчивые манеры.
Узбечкам не разрешается выходить со своей женской половины, когда в гостях мужчины. Только украдкой, когда отец на минуту отлучится, можно увидеть хорошенькую дочь Турсункулова — Заиру. Ее любопытные, широко открытые глаза смотрят совсем по-детски, а нежные щеки горят румянцем. Она шаловливо смеется и быстро убегает, увидев отца.
Я пью чай с изюмом, леденцами и орехами. Потом хозяин приносит плов — коричневатый рис с бараниной. Я ем ложкой, хозяин руками, ловко беря рис тремя пальцами. Он хорошо говорит по-русски с приятным акцентом. Мы сблизились и беседуем вполне откровенно.
— Зачем насильно снимать с женщин паранджу, — говорит он, разводя руками, — зачем приказывать дехканам сажать хлопок и не сажать пшеницу, дехканин сам знает, что ему выгоднее сажать. Не надо насильно, насильно плохо, насильно — басмачи будут. Как басмача поймать, сегодня он басмач, а завтра — крестьянин. Не надо насильно, тогда не будет басмачей.
Бабай (старик) Турсункулов не знает, что насилие, о котором он говорит, — это только начало, что в высших партийных кругах уже обсуждается вопрос о массовом раскулачивании. Но он прав: басмачи — это не разбойники, а просто недовольные крестьяне, и справиться с ними нелегко, несмотря на дивизии специальных войск.
В дореволюционном Узбекистане Турсункулов считался зажиточным хозяином. В революцию у него погиб сын, сражаясь в рядах Красной армии. Турсункулов в период войны и революции потерял значительную часть добра, накопленного за трудовую жизнь.
Страстный любитель лошадей, все же и во время моего с ним знакомства, в последние годы НЭПа, он имел двух кровных лошадей, несколько десятков овец, рогатый скот и большой виноградник. Хозяйство его вели жена и дочь, а он помогал им по мере своих сил. Как-то Турсункулов пригласил меня поехать с ним посмотреть национальную игру — Байгу.
Байга, или Капкари, в переводе на русский язык означает козлодрание. Это необыкновенно красочное и азартное зрелище. Две группы лучших всадников, в нарядных халатах, на породистых ахалтекинских конях, носятся по полю и отнимают друг у друга козла (чучело), перекинутого через седло у одного из игроков. Одна группа должна привезти козла в определенное место, другая — отбить его и умчать. Кони приходят в такую же ярость, как и люди, и игра обычно не обходится без жертв. Перед Байгой лошадей держат в темных конюшнях. Кони звереют и, увлеченные скачкой, в азарте кусают и бьют копытами и других людей и коней.
Крестьянство окрестных кишлаков (селений) валом валит на игры. Зрители приходят в такой же азарт, как и участники. Держат пари, какая партия победит. Люди проигрывают дома, скот, жен.
Позднее Байга была запрещена властями, а ахалтекинские и арабские кони либо погибли во время раскулачивания, либо их угнали басмачи в Афганистан.
Перед войной, на сельскохозяйственной выставке в Москве, показывали только жалкие остатки этой своеобразной и красивой породы лошадей. Насильственная коллективизация привела коневодство к упадку. Конское поголовье перед войной не превышало 40 % дореволюционного, а после Второй мировой войны вновь сократилось на одну треть.
* * *
С Турсункуловым мне довелось встретиться уже после коллективизации, когда я из Ташкента приезжал по делу в Самарканд. Бедный мой друг был сломлен и сильно постарел. Несколько гектаров его виноградника отобрали в колхоз. Лошади и рогатый скот пошли на погашение недоимки по сельскохозяйственному налогу. Благодаря заслугам погибшего сына, его не репрессировали, и он доживал свой век на те скромные средства, которые давал ему садик при доме и несколько овец.
Сидя за кок-чаем под карагачами, Турсункулов снова говорил мне:
— Зачем насилие? Теперь нет у меня моих коней, нет их и у колхоза, а виноградник погиб без присмотра. Виноградник требует любви, ухода. Нет любви и ухода — нет и виноградника.
Бабай был, конечно, прав, и я не мог ничем его утешить. Объяснять Турсункулову, что коммунистическая форма государственного управления может существовать, только жестоко эксплуатируя крестьянство посредством монопольных цен, было, конечно, бесполезно. Все зажиточное, трудолюбивое крестьянство оказалось в еще более тяжелом положении, чем Турсункулов.
Нажим сверху на крестьян все усиливался. Энергично вытеснялись посевы зернозлаков, вырубались, гибли сады и виноградники. Все поливные площади занимались под хлопок.
Административно-управленческий аппарат корени-зировался. К работе в наркоматах узбеков не готовили и коренизация сводилась к фикции — люди слонялись и не знали, чем себя занять. Полуграмотные, скучающие, они томились за письменными столами и целыми днями разучивали, как подписывать латинскими буквами свою фамилию.
Усилились гонения и на кустарей. Почти в каждом узбекском доме до революции был маленький, примитивный ткацкий станок. На таких станках делали местные шелковые и хлопчатобумажные ткани, узкие и пестрые со своеобразным подбором рисунка и красок. Собственная ткань удовлетворяла вкусы местного населения и успешно конкурировала с государственной. Но это влекло «оседание» хлопка у производителя и сужало рынок сбыта государственному текстилю, на котором государство зарабатывало тысячу и более процентов.
Хранение ручных станков стало считаться преступлением и каралось восемью годами тюрьмы. Дехканство заставляли выращивать исключительно хлопок, отбирая весь урожай, не разрешали использовать и килограмма на бытовые нужды.
* * *
Правительственная комиссия, в работе которой принимал участие и я, проверяла работу сельскохозяйственной кооперации «Узбексельсоюз». Сельскохозяйственная кооперация вела заготовку каракуля, шелка, кожаного сырья, фруктов и вообще всего, что производил узбекский крестьянин, заисключением хлопка. Заготовка хлопка находилась в руках государственной организации «Узбек-хлопком».
Обследование «Узбексельсоюза» показало, что заготовительные цены, выплачиваемые дехканам несоразмерно низкие, а наложения чрезмерно высокие. Кооперация перерождалась в советскую государственную организацию, имеющую целью не обслуживание крестьянства, а его жесткую эксплуатацию на базе монополии цен. Аппарат «Узбексельсоюза», как всякий советский аппарат был непомерно раздут, оплачивалось большое количество «иждивенцев», не умеющих работать. Хранение сырья было неудовлетворительным, заготовленные товары портились и теряли свою сортность.
В дальнейшем при обследовании потребительской кооперации — «Узбекбрляшу», вскрылось подобное же положение. «Узбекбрляшу» фактически являлся филиалом Центросоюза СССР. Цены на товары ширпотреба в среднем превышали дореволюционные в 8-10 раз, в то время как заготовительные принудительные цены на сельскохозяйственное сырье, включая хлопок, как уже было сказано, были сохранены коммунистическими монополиями на дореволюционном уровне. Разрыв в ценах все возрастал.
При наличии взвинченных государством цен, ассортимент присылаемых товаров к тому же не удовлетворял местного потребителя ни по количеству, ни по качеству. Вкусы восточного потребителя не принимались во внимание.
* * *
Материалы обследования правительственной комиссией деятельности сельскохозяйственной потребительской кооперации заслушал Совет Народных Комиссаров Узбекской ССР. Я получил задание подготовиться к содокладу и участвовать в проработке с аппаратом Совнаркома и членами комиссии проекта решения Совнаркома по результатам обследования. После трехдневной усидчивой работы в Совнаркоме проект решения был заготовлен. Первый раздел решения охватывал кон-статационную часть об основных недочетах работы, а второй — предложения Совнаркома по упорядочению работы и карательные мероприятия по отношению к работникам кооперации.
Мне стало совершенно очевидно, что заготовленное решение, хотя и проработано добросовестно, но ничего не изменит в самой системе работы, что «пайщики» кооперации не являются действительными хозяевами кооперации и не заинтересованы в ее работе и что в этом лежит основная причина тех бюрократических извращений, которые вскрыты обследованием.
Собственно радикальным средством в оздоровлении работы могло явиться только устранение монополизма, как в заготовках сельскохозяйственного сырья, так и в торговле товарами ширпотреба, и переключение всей работы на рельсы личной заинтересованности.
Нет необходимости говорить о том, что о подобных мероприятиях можно было только думать, но не предлагать. Введение этих принципов лишило бы власть политических и экономических рычагов воздействия на население. А главное, лишило бы тех баснословных спекулятивных доходов на принудительной политике цен в заготовках и торговле ширпотреба, которые получал союзный бюджет и за счет чего финансировал все нарастающие затраты на содержание административного аппарата принуждения и военные расходы.
Здание Совнаркома находилось в большом старом парке. Здесь же в одном из флигелей размещался и Госплан.
Заседание Совнаркома на этот раз было особенно людным. Участвовали наркомы всех наркоматов, их заместители и приглашенные хозяйственники и другие работники, имеющие непосредственное отношение к разбираемым вопросам.
Председательствовал Файзулла Ходжаев. До этого я несколько раз бывал на заседаниях Совнаркома, и мне не раз приходилось слышать выступления этого удивительно разносторонне образованного человека. На заседаниях Совнаркома Файзулла Ходжаев никогда не повышал голоса, говорил лаконично, умея с поразительной точностью формулировать свои мысли и схватывать в каждом вопросе основное. Все присутствующие, обычно, затаив дыхание, слушали выступление Файзуллы. Гипноз его авторитета был поразителен. Когда я смотрел на присутствующих, создавалось впечатление, что они слушают «оракула». Нередко на заседаниях Совнаркома присутствовал секретарь ЦК партии Узбекистана Акмаль Икрамов. Это могло быть только в силу авторитетности Файзуллы Ходжаева и противоречило роли ЦК, как верховного директивного органа во всех политических и экономических мероприятиях и решениях.
В большом зале заседаний посредине стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном с креслами для членов Совнаркома, размещавшихся обычно в строгом порядке по степени значимости наркоматов. Со стороны одного конца, поперек, стоял большой письменный стол Файзуллы Ходжаева, образуя вместе со столом заседаний вытянутую букву «Т». В стороне, за столом размещались стенографистки.
Изящная, несколько миниатюрная фигура Ходжаева, сидящего за письменным столом, напоминала мне Фрунзе, когда я видел его в кабинете в Реввоенсовете. Невероятно большая нагрузка, спешка в работе, бесчисленные решения, заседания и постоянное давление московских правительственных органов, — наложили на лицо Файзуллы отпечаток усталости и какой-то скрытой печали. В дальнейшем мне приходилось часто встречаться с ним и вне заседаний Совнаркома и эти первые впечатления у меня укрепились.
Приглашенные на заседание разместились на стульях, вдоль стен. Занял место и я — в тылу своих наркомов — Пулатова и Гончарова, сидящих по субординации непосредственно во главе стола напротив председателя Госплана. Заседание затянулось до 12 часов ночи. Говорили много и убедительно. Было принято много постановлений с дельными предложениями. В проекты решений Файзулла, как всегда, внес полезные поправки.
В своем содокладе я осветил слабые стороны производственной и финансовой деятельности сельскохозяйственной и потребительской кооперации Узбекистана. Результаты обследования были одобрены Совнаркомом.
Возвращаясь после заседания домой, я все же чувствовал какую-то неудовлетворенность. Мне представились громадная периферия, огромное количество дехкан и вся эта громоздкая сеть кооператоров-чиновников, вовсе незаинтересованных в укреплении государственной кооперации.
Понимает ли это Файзулла? Ведь не может он, умнейший человек, не понимать, что жизнь делают не решения Совнаркома, а сотни тысяч «винтиков», — те незаметные люди, сидящие там, на местах и, если эти люди теряют личную заинтересованность, то никакие «решения», как бы хорошо они ни были составлены, не в силах вылечить экономического больного организма. Мне вспомнились слова Ленина, что монополия — это «застой и загнивание»…
Файзулла Ходжаев! Что может сделать этот самоотверженный и умный человек? Ведь он в плену системы и может только идти в фарватере той политики, которая диктуется Кремлем. Он может только «проводить» в жизнь директивы, но не изменять политику Москвы. Проводить политику завинчивания пресса эксплуатации узбекского крестьянства.
* * *
Через некоторое время была объявлена чистка государственного аппарата.
Сообщение о чистке, сделанное на одном из общих собраний коллектива наркомата секретарем партийной организации Трипольским, вызвало настороженность среди аппарата, особенно старых специалистов.
На кого обрушится удар. Вполне естественно, что чистка не затронет выдвиженцев из узбеков, не затронет и партийцев. Значит, будут «чистить» еще сохранившуюся в аппарате старую русскую интеллигенцию — «освежать» аппарат и, посеяв страх, сделают его покорным в выполнении директив.
Политико-экономическая концепция партии в оценке роли финансов сводилась к тезису, что сила государства определяется мощью бюджета. Это определяло и роль аппарата — исполнителя воли партии.
Финансовый аппарат — основной экономический нерв, и за его реакцией партийные круги наблюдали весьма внимательно.
Таков, очевидно, смысл чистки и ее направленность, — пришел я к выводу, размышляя о новой чистке.
* * *
Комиссия по чистке до некоторой степени напоминала работавшую в свое время в институте, с той только разницей, что в ее состав ввели представителя народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции. Председателем комиссии назначили парторга Трипольского.
Недалекий, не любивший особенно размышлять над проблемами жизни, Трипольский был ярким представителем слоя партийной бюрократии, слепо выполнявшей директивы партии и правительства. Собственная, несложная житейская формула этого человека совпадала с понятиями известного героя Грибоедова — «Не должно сметь свое суждение иметь».
Трипольский начал работать в финансовом аппарате после демобилизации из Красной армии. На фронте, в Гражданскую войну, он потерял ногу и был награжден орденом Красного Знамени. Интересовался он только узко партийной работой. Партийные собрания в его представлении были единственным смыслом деятельности и решающим началом во всей деловой жизни Наркомата.
— Сегодня партийное собрание, — произносил он эти слова многозначительно и с пафосом, чувствуя себя, очевидно, в зените власти и смотрел при этом на Гончарова даже с некоторым пренебрежением. В иные моменты, наблюдая мимику их лиц, мне казалось, что Гончаров действительно как-то невольно робеет. Возможно, что это вызывалось его антипатией к словесной шелухе всяких собраний.
Поручение возглавить комиссию по чистке крайне льстило самолюбию Трипольского и он начал деятельно собирать материал на отдельных сотрудников. В этот период мной был составлен подробный доклад о деятельности «Узбекхлопкома», обосновывающий ряд положений, резко критикующих деятельность этого крайне громоздкого и дорогостоящего учреждения.
«Узбекхлопком» находился в непосредственном подчинении московских органов и аппарат, чувствуя себя в Узбекистане независимо, относился к республиканским органам, включая и Совнарком, с пренебрежением. Узбекский Наркомфин, имея специальное полномочие от Нар-комфина Союза, находился в несколько ином положении, получив право контроля его деятельности.
Мой доклад обсуждался в Совнаркоме и Госплане вызвал положительную оценку.
В этот период началось проектирование строительства крупнейшего комбината азотистых удобрений на базе водных энергетических ресурсов реки Чирчик в окрестности Ташкента. Он прорабатывался неким инженером Дрено-вым и я принимал участие в выработке экономических обоснований этого проекта. Электроэнергия, вода и воздух давали возможность производить азотные удобрения в масштабах, обеспечивающих потребности хлопководства всей Средней Азии.
Под этим углом зрения проводилось проектирование, а впоследствии и строительство грандиозного Чир-чикского Комбината, поглотившего не одну сотню миллионов рублей, ассигнованных на «развитие сельского хозяйства». Это была показная сторона назначения комбината. Фактически же строительная часть проекта предусматривала создание крупнейшего арсенала взрывчатых веществ.
Практически комбинату придавали чисто военное значение, и производственный процесс был рассчитан на выпуск нитроглицерина, пироксилина, бездымного пороха и т. п. Азотная кислота и клетчатка (хлопковая) предопределили и выбор места строительства — в районе производства хлопка. Коммунистический империализм в этот период только начал подымать голову и власти, по понятным соображениям, маскировали исключительно большие затраты на вооружения.
Узбекам только обещали «завалить» хлопкоробов удобрениями, но это так и осталось одним лишь обещанием.
Подготовляясь к чистке, Трипольский стремился подобрать «жертвы» таким образом, чтобы они отвечали намеченной высшими инстанциями наметке.
Не зная существа дела с проектированием комбината и имея искаженную информацию (донос), Трипольский пытался подвести и меня под чистку, но, получив нагоняя «сверху», прекратил свои интриги.
Сотрудники, намеченные к чистке, в соответствии с указанием свыше, делились на три категории. Вычищенные по первой категории не могли уже продолжать в дальнейшем работу в государственном аппарате, то есть получали фактически «волчий билет». Вычищенным по второй категории предоставлялась возможность занимать не руководящие должности в торговой, кооперативной системе на периферии, а вычищенным по третьей категории могли остаться работать в той же системе, но не на ответственных постах центрального аппарата.
Чистка, как и полагается всякой советской чистке напугала и выбила из колеи работников Наркомата. По первой категории был вычищен некий Лелюхин, шестидесятилетний старик, бывший дворянин, в свое время, еще при царской власти, — работник Министерства финансов, опытный специалист. При остром недостатке квалифицированных работников увольнение Лелюхина противоречило здравому смыслу. Морально он растоптан и списан из жизни еще один честный русский человек, совершенно, конечно, безопасный для советской власти.
По второй и третьей категории вычистили несколько человек, но их положение было не таким трагическим — они все-таки могли где-то продолжать работать.
Чистка повлияла на общую моральную обстановку в наркомате — усилилось взаимное недоверие, произошло как раз то, к чему и стремилась власть.
* * *
Соприкасаясь по работе с сельскохозяйственными учреждениями Узбекского Наркомата, я познакомился с заместителем председателя Узбекского «Колхозцентра» — Иваном Александровичем Бенедиктовым.
Его манера позировать, даже в самой обыденной обстановке учреждения, была неприятной. Ловкий краснобай, он любил выступать с громовыми речами на избитые темы советской пропаганды, увязывая это с «текущими задачами» своего Наркомата. Довольно выигрышная внешность, горделивая осанка и книжка члена партии — сулили ему успех в советской жизни. Все сотрудницы его учреждения были без ума от «Ванички», как они его называли. Его я встречал еще и в доме моих знакомых, где он часто бывал, увлекаясь средней дочерью М. Его бархатный баритон, звучащий так чарующе в песенках Вертинского, сделал свое дело, и милая, вовсе не глупая девушка, пала жертвой чар «Ванички».
Значительно позднее, уже в тридцатых годах, я случайно встретил эту «милую девушку» в Москве. Она училась здесь в Тимирязевской Академии, жила одна с дочкой. «Ваничка» же сделал большую карьеру и стал наркомом наиболее сложного, таящего подводные камни Наркомата. И по сей день Ваничка Венедиктов занимает пост министра земледелия Советского Союза. Много наркомов и министров сменилось, а «Ваничка» остается бессменным. Близкие к нему люди говорили, что песенки Вертинского сыграли не последнюю роль в его кремлевской карьере.
Мне вспомнились тогда его слова, сказанные мне еще в Самарканде.
— В нашей жизни важно понять, какое значение имеет партбилет в кармане, и понять генеральную линию партии: без этого карьеры не сделаешь.
На примере с Бенедиктовым я лишний раз убедился в справедливости его слов, но все же предпочел остаться беспартийным.
* * *
Пролетело несколько лет самаркандской жизни, полной напряженного горения, бесплодных исканий, попыток разрешить неразрешимое, попыток найти удовлетворение в работе. Все очевиднее мне становится, что я не смогу найти равновесия в моей деловой жизни и примирить внутренние противоречия с окружающим. Но жить и работать нужно…
Моя жизнь несколько меняется.
По воле Кремля, Узбекистан переносит свою столицу — правительственные учреждения переезжают в Ташкент. Я получаю повышение по службе и, как начальник отдела Наркомата финансов, переезжаю в Ташкент и занимаю хорошую квартиру в особняке на Пушкинской улице. Уже нет милого моему сердцу тенистого сада. На улицах редко встречаются верблюды, и нет гарцующих на конях узбеков. Только изредка из старого города доносятся знакомые звуки ухающей трубы и свист флейты.
Все это уже позади. Пришел год «великого перелома» — сплошной коллективизации. Голодные полуживые крестьяне, в обносках, лаптях и онучах, наводняют вокзал, площади и улицы Ташкента.
«Переломанные» годом «великого перелома», люди бегут из России в поисках куска хлеба. По улицам бродят голодные матери с детьми и с мольбой во взоре протягивают руки за подаянием. Трупы, бесконечные груды трупов, как дрова наваливают на грузовики и отвозят на свалку, где кое-как зарывают в общих ямах. Голодные, уцелевшие собаки разрывают ямы и дерутся за добычу. Не раз я видел эти страшные грузовики — катафалки смерти. Торчат грязные, окоченевшие руки и ноги. Искаженные голодом лица смотрят потухшим взглядом в небо. Невольно мне вспомнились слова революционной песни: «Вы землю просили, я землю вам дал, а волю на небе найдете»…
Снова повторяются голодные 1918–1921 годы. Население посажено на скудный паек и зажато в могучий страшный кулак государственной монополии. Средства рекой льются в бюджет на финансирование строительства новых гигантов пятилетки. Строится и комбинат взрывчатых «удобрений» на Чирчике.
На собраниях воздух сотрясается от призывных речей ораторов.
— Мы окружены врагами, мы должны быть бдительными, мы должны летать дальше всех и выше всех. Все силы отдадим пятилетке!
Государственный пресс продолжает неутомимо действовать. Открываются магазины «Торгсина», они ломятся от продуктов, мануфактуры и обуви. В обычных же магазинах — пустые полки, а карточные нормы удовлетворяются только по хлебу.
Женщины снимают уцелевшие крестики и обручальные кольца и несут в Торгсин, чтобы выменять на кусок мыла, пару ботинок или теплую фуфайку для ребенка.
Спекулянты, несмотря на угрозу получить восемь лет концлагерей, перепродают торгсиновские «боны» по 35–40 рублей за 1 рубль Торгсина.
Союзный бюджет, как ненасытная утроба, требует все новых жертв. Как кровососная пиявка, бюджет высасывает последние соки из населения.
Торгсин ликвидирован — золото выкачено.
Открываются коммерческие универмаги, забитые товарами. Но каковы цены? Модельные туфли, их выделывает ташкентская обувная фабрика, по фабричной себестоимости за 12 рублей — продаются в универмаге за 220; шерстяное пальто, сшитое на ташкентской фабрике «Красная Заря», по фабричной себестоимости 22 рубля — продается за 280.
Все эти бюджетные наценки — налог с оборота зачисляются на счета союзного бюджета. Средства централизуются и расходуются на плановое строительство общесоюзных «чирчиков» и тому подобных объектов. Это не «прибавочная стоимость» по Марксу, это новый вид дохода от спекуляций государства на нищете и горе людей. На базаре купить ничего нельзя. Базар — это спекуляция. Базар разгоняется милицией, а горожане, вынесшие обменять свою старую одежду на кусок сала, арестовываются и ссылаются в лагеря.
Нужно все покупать у государства, чтобы обеспечить его безответственные траты на строительство, армию и аппарат. Государство не «спекулянт». Государство только торгует с наценкой в 1000 % и больше.
Население раздето и разуто. У населения нет выхода, и трудовые рубли текут в универмаги.
* * *
Бюрократическое море наркоматов «кипит». Согласовываются резолюции, принимаются постановления, издаются очередные директивы Совнаркома и ЦК партии. Люди надрываются, захлестнутые морем бумаг, работают вечерами, ночами. Ударники на заводах и полях изнемогают на выполнении непосильных норм.
Файзулла Ходжаев мрачнее тучи. Глаза ввалились, усталое лицо нервно поддергивается, когда он диктует стенографистке очередное решение Совнаркома.
По одному из этих постановлений создана комиссия по обследованию ход строительства «гигантов» пятилетки. Возглавляет комиссию — председатель Средазбюро ЦК ВКП(б) — Манжара — гроза всех партийцев среднеазиатских республик. В состав комиссии Совнаркома включен и я.
Одной из задач комиссии является определение эффективности капиталовложений. Комиссия обязана проверить готовность к сдаче в эксплуатацию фабрики-кухни, построенной на Куйлюкской улице в Ташкенте.
Обрюзгший, седой Манжара кряхтит, но обходит с комиссией все здание, подготовленное к сдаче. Строительство выполнено по проекту московской организации. Круглое здание опоясывают застекленные веранды. Плоская цементная крыша пропускает влагу, и в зимние дождливые месяцы вода с крыши протекает и размывает стены.
В солнечные дни крытые стеклянные галереи, где должны обедать рабочие, напоминают духовые шкафы плиты. Температура достигает 50° по Цельсию. Фабрика-кухня в трех километрах от объекта снабжения. По проекту, пища будет частично развозиться на заводы, закисая в термосах.
Манжара подходит к стене.
Кирпичная кладка сделана на глиняном растворе. Манжара без каких-либо усилий вынимает из сырой, размытой стены кирпич. Он справедливо негодует.
— Что это значит? Вредительство? — кричит Манжара на сопровождающего комиссию прораба.
Тот бледнеет.
— Разрешите доложить, товарищ Манжара, что за время строительства сменилось 17 прорабов, и я за кладку стен и устройство кровли не могу нести ответственности, так как не выполнял этих работ, — отвечает прораб, прерывающимся от волнения голосом.
Комиссия закончила обследование. Написано было весьма «дельное» решение, констатирующее ее, что столько-то миллионов рублей народных средств израсходованы впустую. Здание фабрики-кухни рекомендовали использовать на другие нужды. Впоследствии здесь был открыт этнографический музей.
Манжара все же выискал какого-то человека, виновного в плохой кладке стен и отдал его под суд. А то, что типовой проект строительства не был согласован с климатическими условиями Узбекистана, оставалось на совести московской проектирующей организации.
Следующим объектом обследования правительственной комиссии стал Ташкентский хлебозавод. Строительство осуществлялось в ударном порядке и было сдано в эксплуатацию в срок. Однако хлебозавод систематически выпускал недоброкачественный — непропеченный хлеб. Оказалось, что дирекция хлебозавода была поставлена в тяжелые условия, так как московский главк требовал высокого припека, покрывающего все издержки производства.
В этот период государство уже встало на путь широкой спекуляции хлебом.
Хлеб обходился государству с учетом всех издержек производства и припека в 8–9 копеек за килограмм, а продавался населению белый и серый в среднем по 80–90 копеек за килограмм. Позднее отпускные цены вновь подняли, а себестоимость производства, на основе стахановских достижений ударников и увеличения припека, снизилась. Государство успешно продолжало спекулировать на хлебе. Население не могло обойтись без хлеба и покупало, и покупает хлеб по тем ценам, которые диктовала и диктует коммунистическая власть. После Второй мировой войны цена на хлеб вновь увеличена в два раза, а заготовительные государственные цены на хлеб, покупаемый у колхозов, оставлен на прежнем уровне дореволюционной России.
Рыночные отпускные цены, конечно, не распространялись на расчеты с армией, получавшей хлеб по себестоимости.
По результатам обследования строительства и деятельности хлебозавода правительственная комиссия ограничилась декларативными предложениями об улучшении качества выпечки и расширении ассортимента.
Узбекский Совнарком заслушал доклад по материалам расследования. Файзулла Ходжаев был резок в своих высказываниях, но своих замечаний не внес, а ограничился подтверждением решений, принятых Манжарой.
* * *
Мое новое служебное положение обязывало ежегодно ездить в Москву для защиты производственно-финансовых планов и бюджета. Поездки в Москву были обычно интересными в деловом отношении и отвлекали от повседневной рутины Наркомата. Мне запомнилась одна из таких поездок — в обществе Исламова — нового наркома финансов Узбекской республики. Акбар Исламов был начитанным, культурным человеком. Выдвинулся он на работе в Совете Национальностей Верховного Совета СССР и состоял его членом. Красный значок члена ЦИК СССР подчеркивал его представительную внешность. В Узбекистане он был популярен, как один из ведущих узбеков и член Центрального комитета коммунистической партии Узбекистана.
Ехали мы, как обычно, в международном вагоне первого класса. На вокзале, в комнате для членов правительства, я встретил своего наркома в окружении нескольких подобострастных узбеков. Подали поезд и мы вышли садиться в вагон. Свистки милиционеров железнодорожной охраны войск НКВД и шум на перроне нас остановил. По перрону вели группу — человек тридцать — беспризорников, окруженную десятком охранников-НКВДистов с наганами в руках. Черные, в паровозной копоти и угле, изможденные лица девочек и мальчиков, какие-то фантастические лохмотья, вместо одежды, опорки на ногах производили жуткое впечатление. Эти дети вокзалов осыпали своих конвоиров проклятьями и руганью.
— Откуда вы их взяли? — спросил Исламов одного из НКВДистов.
При виде красного флажка с надписью «ЦИК СССР» на лацкане пиджака Исламова, охранник взял под козырек.
— Кулацкое отребье. Никак не избавимся. Одних выволакиваем, другие приезжают. Устроили здесь под перроном целое общежитие. Видите, даже брюхатые есть, засмеялся НКВДист и кивнул в сторону двух худеньких девочек-подростков на вид лет по четырнадцати.
Исламов ничего не сказал. Шествие прошло, и мы сели в вагон экспресса Ташкент — Москва. Я не мог забыть изможденные лица этих детей, потерявших человеческое выражение, измученных постоянными скитаниями по СССР в угольных ящиках, под пассажирскими вагонами экспрессов, оторванных от семьи и погибающих под перронами вокзалов.
Исламов сочувственно кивал головой, когда я ему говорил о тяжелой проблеме беспризорничества в СССР, о гибели десятков, а может, и сотен тысяч ребят, повинных только в том, что их родители оказались трудолюбивыми зажиточными крестьянами и были сосланы в концлагеря.
Нужны ли эти бесчеловечные социальные потрясения, приведут ли они к социальной справедливости и экономическому процветанию?
Неприкрытая действительность стоит перед глазами: разорение, нищета, бесхозяйственность, голод, смерть десятков миллионов людей…
Вагон плавно покачивается, едва поблескивает синяя лампочка ночника, белеют простыни постельного белья.
Через четверо суток мы в Москве. В гостинице «Савой» на Неглинной занимаем номера.
Начинается сутолока бесконечных совещаний, заседаний, согласований с Госпланом и Наркомфином СССР производственных, финансовых планов, лимитов капиталовложений и бюджета Узбекской республики на наступающий новый хозяйственный год.
Наркомфин Союза ревниво охраняет Союзную казну. Московскими партийными органами заранее намечены строгие рамки бюджетов всех республик. Госплан с Наркомфином только подравнивают запросы к лимитам ЦК ВКП(б).
Финансовая налоговая система построена с точки зрения национальной политики весьма хитро. Узбекистан — хлопководческая база Советского Союза и занимает по сбору хлопка около 70 % удельного веса в хлопковом балансе СССР. Несколько миллионов тонн хлопка вывозится в Советский Союз и узбекские колхозы получают за свою продукцию заниженную стоимость в ценах золотого исчисления рубля. Частично хлопок возвращается в Узбекистан уже как текстиль и реализуется с наценкой, в десять раз превышающей себестоимости. Наценки поступают, минуя бюджет Узбекской республики, на счета Нарком-фина СССР. Этот порядок сохраняется по шелку-сырцу, каракулю, хлопковому маслу, кожам и другим видам сельскохозяйственного сырья и по всем видам промышленных изделий.
Союзные главки, заготовляющие в Узбекистане хлопок, не доплачивают Узбекистану миллиарды, а 90 % налогов на торговой оборот, собираемые торговой сетью, поступают в кассу союзного бюджета. Такая финансовая эквилибристика приводит к тому, что бюджет Узбекской республики формально дефицитен, хотя его объем и ничтожно мал. Ущемление интересов Узбекской республики понятно мне и узбекам — руководителям республики, но говорить об этом нельзя. В таком же положении, конечно, и другие союзные республики: Украина, РСФСР — хлеб, лен, уголь и прочее сырье, Азербайджан — нефть и т. д. Зато финансовый кулак союзного бюджета силен, и он, как молотом, забивает все новые гвозди, финансируя бесперебойно коммунистическую военно-полицейскую машину.
Рубли Советского Союза по их товарной стоимости разные и это определяет политику Наркомфина Союза. На первом месте по высокой покупательной способности стоит рубль по расчетам с крестьянством за заготовляемую государством сельскохозяйственную продукцию. На этом же уровне, близком к золотому паритету, поддерживается и курс рубля по расчетам Военного ведомства с бюджетом.
Рубль, финансирующий капиталовложения так же, как и Военное ведомство, отоварен высоко — тонна стали-катанки по государственным расценкам 70–80 руб., поэтому при защите хозяйственного плана идет постоянная борьба с Госпланом и Наркомфином за сохранение объема капиталовложений на необходимые для хозяйства Узбекистана объекты строительства. Работники Госплана и Наркомфи-на мало считаются с официальными заявками узбекских органов. Многое при защите плана и бюджета зависит от того, будет ли найден общий язык с работниками Центрального аппарата.
Согласование и утверждение всех показателей плана тянется неделями. Только изредка можно выбрать время, чтобы пойти в театр или навестить старых друзей.
* * *
В Москве я встретил свою бывшую однокурсницу по институту, Таню. Ее постигли новые житейские невзгоды. Ее мужа, врача-зоотехника, в тридцатые годы арестовали и сослали на десять лет по обвинению в гибели свиней. В том совхозе, где работал Андрей, муж Тани, подохло какое-то количество свиней и его обвинили во вредительстве. Я был абсолютно уверен, что обвинение Андрея, как и многих других ветеринарных врачей, построено на вымысле, и гибель свиней вызвана не вредительством, а обычной для советской системы бесхозяйственностью.
Таня поведала мне об этом несчастье, горько плача. Она приехала к своим родителям с Украины, где жила с мужем, пытаясь найти пути для спасения Андрея. Но чем можно помочь Тане? Единственная для меня реальная возможность — это попытаться переговорить с Вышинским. Ведь помог же он мне однажды в жизни, когда меня вычистили из института. Может быть, и в данном случае он окажет свое содействие.
Таня сразу уцепилась за эту мелькнувшую маленькую надежду. Мы составили с ней заявление на имя Вышинского, и я решил на следующий же день добиться у него приема.
Резиденция Вышинского, в этот период Верховного прокурора Советского Союза, находилась на Дмитровке.
Мрачное, серое здание, охранники НКВДисты у проходной — все это сразу произвело на меня тягостное впечатление. После личного разговора с Вышинским по телефону из проходной (я напоминаю ему о нашем знакомстве) он дает приказание выдать мне пропуск.
Сумею ли я объяснить Вышинскому всю нелепость обвинения и добиться освобождения Андрея? Какими словами убедить Вышинского? Ведь Вышинский уже сделал карьеру, и у меня нет поддержки со стороны нужных ему людей. Да и кто ему теперь «нужен» в его новой роли прокурора Верховного Суда Союза! Но попытаться необходимо — перед глазами стоит заплаканное лицо Тани.
Вхожу в кабинет и, взглянув на надменное лицо Вышинского, как-то сразу интуитивно чувствую, что пришел зря, что этот человек не захочет ничего сделать и ничем помочь.
Стол завален папками с делами. На обложках вижу фамилии. Мертвые обложки дел, а ведь за ними живые люди, судьба которых в руках этого человека. Сколько тысяч таких «папок» в этих стенах — думаю я, глядя в бесстрастные, холодные глаза прокурора СССР.
— Садитесь, — любезно, скривив рот в улыбке, говорит Вышинский.
Я передаю заявление Тани и начинаю коротко излагать сущность дела. Лицо Вышинского мрачнеет, а рука теребит заявление.
— Я ничего не могу сделать. Пересмотр приговора невозможен, — говорит он.
— Но позвольте, Андрей Януарьевич, ведь человек этот абсолютно не виновен! — вырывается у меня протест.
— Это решение судебных органов и решение партии. Советую вам не заниматься защитой врагов народа.
И Вышинский пренебрежительно бросает заявление Тани на край стола. Злоба против Вышинского затопила все внутри. Мне уже ясно, что он и пальцем не шевельнет, чтобы спасти невинного, но я не могу сдержаться.
— Вы, Андрей Януарьевич, как прокурор можете помочь. Ведь гибель этого невинного человека будет и на вашей совести, — говорю я в отчаянии.
— Я уже дал вам ответ. Подпишите товарищу пропуск на выход, — обращается Вышинский к вошедшему охраннику. Не простившись, я выхожу из кабинета.
Что теперь я скажу Тане? Ведь она, бедняжка, надеялась, что Вышинский поможет в ее горе, а теперь и эта надежда угасла. Лучше бы я не ходил к этому карьеристу.
— Партия так решила, — вспоминаю слова Вышинского.
Вечером я снова был у Тани. Комната маленькая, но уютная. Из кухни доносится шум десятка примусов и возбужденные голоса хозяек, жильцов этой коммунальной московской квартиры. Спит маленькая дочка Тани. Мы долго сидим, обсуждая, что можно еще предпринять чтобы выручить Андрея из концлагеря…
* * *
Закончилось рассмотрение хозяйственного плана и бюджета, и я снова вернулся в Ташкент.
Наркомфин Узбекистана имел специальные полномочия от союзного Наркомата, и мои функции, в смысле влияния на экономическую сторону жизни, несколько расширились.
Финансовый аппарат, как проводник все нарастающей, в своей циничной бесчеловечности, политики, стал для меня совершенно невыносим. В той же время оставить работу и перейти в другое ведомство я самовольно не имел права. Поэтому меня чрезвычайно обрадовало, когда Файзулла Ходжаев предложил перейти на работу в Совнарком в качестве консультанта по народному хозяйству.
Я дал согласие и, по решению Совнаркома, был переведен на эту работу. В новой обстановке в Верховном органе республики я столкнулся с другими трудностями, которые заставили меня оставить пределы, ставшего близким мне, Узбекистана.
Система централизма в управлении хозяйственной жизнью Узбекской республики была доведена до предела. Заготовки всего сельскохозяйственного сырья: хлопка, шерсти, каракуля и т. п., — находились в ведении союзных главков, и заготовка практически осуществлялась их филиалами на территории республики по ничтожным ценам, продиктованным Москвой. Промышленность, имеющая экономическое значение, как хлопкоочистительная, растительного масла, текстильная, хлебопечения, шелковая, — также была подчинена соответствующим главкам союзного значения. Централизм в управлении еще более укреплялся действующей системой зачисления основных налоговых поступлений с товарооборота на счета союзного бюджета и подчинением торговой коммерческой сети универмага московским торговым органам. Экономическая независимость Узбекской республики была фактически сведена к фикции, а узбекский Совнарком, лишенный рычагов управления, превращен в малозначащий придаток московских органов.
По существу, финансово-экономическая политика полностью диктовалась Москвой, а за республиканскими правительственными органами оставлены лишь функции слепого выполнения диктата центра. Эта зависимость от Кремля еще больше проявлялась в политической жизни республики, вследствие подчинения политической полиции Москве и превращением Центрального комитета коммунистической партии Узбекистана в чиновный исполнительный орган ЦК ВКП(б).
Секретарь ЦК партии Узбекистана, председатель Совнаркома Республики и Наркома отраслевых наркоматов, хотя и носили громкие титулы руководителей, но в действительности зависели в своих мельчайших поступках, и роль их была не более, как чиновных пешек в руках Кремля. Тем самым и ответственность за качество управления ложилась на московские главки. Это положение вызывало исключительную бюрократизацию и снижало качество управления. Московские главки не могли своевременно реагировать на неполадки, а республиканские органы не имели права вмешиваться в работу предприятий.
Этого не могли не понимать и не видеть руководящие деятели республик — узбеки. Те из них, которые хотели во имя личного благополучия слепо исполнять веления Кремля, преуспевали, но и они накапливали в себе скрытое недовольство. Обстановка в республиканских органах поэтому всегда оставалась крайне напряженной, а экономическая политика удушения с помощью диктата цен вызывала справедливое негодование в широких кругах населения и в правительственных верхах. Было похоже, что клокочущая внутри ненависть прикрыта заслонкой страха и репрессий, но готова каждую минуту вырваться на поверхность.
Этот скрытый антагонизм к политике Москвы я очень ярко ощутил в обстановке своей новой деятельности в Совнаркоме. Мне стало тяжело работать. Я понимал всю безвыходность положения узбекских руководителей. Эти люди видели, что светлые идеалы, к которым они стремились, превращены в мираж.
После довольно длительных хлопот мне удалось добиться освобождения от работы и выехать в Москву, заново строить деловую жизнь.
Спустя два года, работая на Дальнем Востоке, я узнал из газет о нашумевшем процессе «врагов народа» Бухарина, Файзуллы Ходжаева и других. Что только ни инкриминировано этим людям, пытавшимся бороться с тоталитарной системой Сталина, сколько грязи вылито аморальным преступником Вышинским на головы этих, когда-то «верных соратников» Ленина!
Проработав в Узбекистане девять лет и непосредственно сталкиваясь с Файзуллой Ходжаевым не только по работе, но и вне ее, я не раз мог убедиться в принципиальной честности этого умного человека. Файзулла не мог оставаться молчаливым зрителем бесчеловечной эксплуатации его народа и из-за этого стал жертвой сталинской «мясорубки».
Отец Файзуллы Ходжаева — богатейший человек, по своему авторитету и могуществу был известен далеко за пределами Узбекистана. Ослепленный коммунистической пропагандой, Файзулла — идеалист по натуре, с первых же дней революции встал в ряды правоверных сторонников коммунизма. За свой счет он отправил не один железнодорожный эшелон одежды и продовольствия голодной и раздетой Красной армии.
В награду за все это коммунизм воздвиг этому заблудившемуся либералу «памятник» из лживых обвинений в измене народу.
Мусульмане Узбекистана сохранят память о Файзулле Ходжаеве, как о борце за социальную справедливость.
В начале Второй мировой войны, будучи в Ташкенте, я узнал, какому жестокому истреблению были подвергнуты кадры Узбекистана. Ни один нарком из сподвижников Файзуллы Ходжаева не уцелел. Погиб способнейший узбек — заместитель Файзуллы — Карим, погиб Акбар Исламов, секретарь ЦК партии Акмаль Икрамов и сотни других.

Глава III
В коммунистическом тупике
За долгие годы моей работы в Узбекистане я сроднился с жизнью этого народа и мне стали дороги его интересы. Участвуя в проведении тех или иных мероприятий в области строительства, промышленного или сельскохозяйственного развития, я всегда думал, что это мое близкое, кровное дело.
Те или иные бюрократические извращения в работе наркоматов, трестов, главков, а их было немало, вызывали во мне болезненную реакцию. Хотелось активно вмешаться, что-то изменить и наладить, но недочетов слишком много, сами условия работы, связанные с советской структурой, порочны, и устранить их было невозможно. Вся хозяйственная жизнь, основанная на плановом диктате, вертелась в порочном кругу бюрократического централизма и глушения личной инициативы и заинтересованности в работе.
Бюрократическая машина давила, как чудовищный пресс, на всякое живое начинание. Все боялись ответственности и старались оградить себя крепостью из неясных резолюций и переложить ответственность на других. Чтобы протолкнуть любое предложение у замнаркома, надо было собирать по нескольку подписей работников аппарата. Даже заместитель народного комиссара думал не только о деле, но и о том, как в случае необходимости оправдаться перед партийными, контрольными органами или НКВД.
Каждый ответственный работник стремился подстраховаться и иметь документ, подтверждающий участие ряда сотрудников в принятии решения.
Поток бумаг, порожденный таким методом работы, перегружал аппарат ненужной для дела писаниной, создавалось такое впечатление, что мощный локомотив тратит чудовищную энергию, толкая состав вагонов с включенными тормозами.
Приехав в Москву, я не мог об этом вспоминать, но одновременно не мог не думать о положительных сторонах оставленной мной работы в Узбекистане.
Хорошие отношения с руководящими работниками Узбекистана, их подчеркнутая внимательность к моим деловым предложениям поставили меня в привилегированное положение к кругу лиц, соприкасающихся со мной по работе. Практически это давало преимущество, и в материальном отношении я был обеспечен не плохо. Все это говорило о том, что, затратив столько энергии и времени, уезжать из Узбекистана не следует.
Но неудовлетворенность, как накипь, откладывалась внутри. Я зашел в какой-то тупик, стал терять ощущение интереса к жизни и в мыслях все чаще начало появляться сознание полной своей беспомощности. Радикально изменить положение я был не в силах, в такой же мере, как не в силах сделать это были и руководители республики — пешки в чьих-то руках. Порочный круг советских взаимоотношений держал всех нас в своем плену. Одни это видели, другие просто не замечали, или не хотели замечать, а иные находили смысл в маленьких радостях своего личного бытия и некоторого материального благополучия.
Умная, любимая мною женщина, хорошо понимала мое состояние, но бессильна что-либо изменить. Она понимала, что брак — совместная жизнь — не спасет меня от этого угнетенного состояния, а принесет мне только дополнительную тяжесть от сознания ответственности за судьбу семьи. С этими мыслями я уехал в Москву.
* * *
Налаженные благодаря ежегодным поездкам связи в московском аппарате обеспечили мне возможность выбора — остаться ли на работе в Центральном аппарате одного из наркоматов в Москве, или снова ехать на периферию. Мои наблюдения и знаний условий работы московских главков не обещали мне ничего утешительного.
Мне представлялось, что строить и видеть реальные плоды своей работы будет значительно интереснее — и в соответствии с этим я принял предложение работать на далекой окраине — заместителем управляющегостроительным трестом во Владивостоке.
Владивосток являлся запретной зоной. Переезд на жительство, да и вообще право въезда в этот город разрешалось НКВД после соблюдения множества формальностей, а на паспорте ставился особый штемпель. Дорога во Владивосток экспрессом занимает девять суток. Фактически это внеочередной отпуск и возможность отдохнуть в условиях известного комфорта в двухместном купе международного вагона.
Уютное купе, проводник разносит душистый чай. В соседнем купе слышны веселые голоса: едет НКВДист со спутницей. Его провожали работники НКВД с работы, а его дама зашла позднее. Официант из вагона-ресторана снабжает их винами и шампанским.
Мелькают за окнами города и деревни. Огромная скованная страна…
За Уралом — степи, тайга, сотни километров между станциями, невероятное по своим размерам, неосвоенное богатство. Я в первый раз в Сибири и поражен ее дикой мощью — никакие книжные описания не могут заменить этого непосредственного впечатления. Особенно красив Байкал. Дорога высечена в скалах, бесконечный водный простор, горы, лес.
Перед самым Байкалом встречается эшелон. Красные деревянные вагоны, окна под крышей, обмотанные проволокой, а в окнах бледные изможденные лица, в глазах тоска и отчаяние. Около вагонов солдаты с винтовками, никого не допускают. Грубые окрики, грубые и бесцеремонные, как на скот… Эшелон с заключенными тоже идет на Восток.
Обычно в СССР в общественных местах не принято говорить о заключенных. Что есть где-то лагеря — знают все, но… об этом не говорят, надо научиться не замечать некоторых вещей. Многие к этому привыкли и, очевидно, действительно не замечают.
Поезд трогается. Байкал теряется во мгле.
* * *
Владивосток встретил туманом, дождем, облезлыми сопками, мутно-зеленым морем и бедно одетыми жителями.
Через бухту Золотой Рог перевозят китайцы — «юли-юли». Они гребут не двумя веслами, как везде в России, а одним. Это весло укреплено на корме и сухие крепкие руки перевозчика быстро и своеобразно им вертят, толкая лодку вперед. Движение их похоже на юление и отсюда название «юли-юли», распространившиеся на Дальнем Востоке на всех китайцев.
Во Владивостоке много военных и моряков. В свое время это был свободный порт, и бухта кишела иностранными судами. Теперь этого нет. Во всем чувствуется какая-то заброшенность. На городе лежит особый отпечаток. Транспорты заключенных отправляются отсюда на Колыму…
Номер в гостинице «Челюскин» после Москвы и купе международного вагона, показался неуютным, а сама гостиница — убогой и грязной.
Временно управляющий трестом, главный инженер В-й «болел» обычной болезнью советского чиновника: боязнью ответственности и нежеланием проявлять инициативу. В-й подчеркнул, что он только главный инженер, призван руководить строительством, а не организацией дела в целом. Знакомство с делами треста произвело самое гнетущее впечатление.
Вновь организованный строительный трест «Владивостокрыбстрой» должен был вести строительство рыбных комбинатов и жилых домов для рабочих рыбных трестов — Дальгорыбтреста, Крабтреста и Рыбного управления. Работы производились в разных пунктах Тихоокеанского побережья, а для их ведения к тресту прикомандировали строительный батальон, насчитывающий около 1000 человек красноармейцев, выделенных Политбюро, по ходатайству Микояна. Помимо батальона трест должен еще завербовать в распоряжение Наркомата пищевой промышленности такое же количество вольнонаемных.
Как всегда в Советском Союзе, самый трудный вопрос — вопрос снабжения строительными материалами. Снабжение здесь шло по двум линиям централизованным фондом наркоматов и за счет местных ресурсов Хабаровского края по нарядам из Москвы. Хотя край и обладал неисчерпаемыми местными лесными ресурсами, но лес отпускался только в размере 20 % от указанного в нарядах количества. Планы лесозаготовок Леспромхозами систематически не выполнялись, а уже заготовленную древесину не было возможности вывезти из леса из-за недостатка конского поголовья, то же происходило с кирпичом и горючим для автомобилей.
Несмотря на гору писем и требований, направленных в Наркомат, трест не мог получить необходимые для строительства подъемные краны, компрессоры, транспортеры и другие механизмы. Отсутствие строительных материалов не давало возможности развернуть работу. Выполнение строительства срывалось, а рабочая сила простаивала.
Особенно нервничал командир строительного батальона майор Симаков. Батальон находился на хозрасчете. Чтобы кормить тысячу бойцов и сто лошадей, надо выполнять нормы выработки и вообще работать. Оправдываясь перед военным начальством, Симаков все время строчил длинные доклады и рапорты, подчеркивая плохую работу руководства трестом. Как человек, он не внушал симпатии. Мелочный, с дергающимся лицом, майор Симаков производил впечатление болезненно-нервного, не вполне нормального человека.
Мне было понятно, что без создания собственных подсобных предприятий, хотя бы кирпичного и лесопильного заводов, поставить дело сколько-нибудь удовлетворительно не удастся. Но для решения этого вопроса надо ждать приезда нового управляющего трестом. Приехал он только через два месяца и повел работу в направлении противоположном всем моим предположениям.
Товарищ X., живой маленький кавказец, — типичный продукт партийно-бюрократической машины, о настоящем налаживании работы он и не думал. Заткнуть сразу все дыры и произвести внешний эффект вот к чему стремился новый начальник.
Всех рабочих бросили на рытье котлованов и возведение стен зданий. О том, что после окончания этих работ, отсутствие материалов, необходимых для отделки зданий скажется еще острее, а капиталовложения будут надолго заморожены, управляющий не думал.
При развертывании работ оказалось, что сметы, составленные в Москве, сильно занижены, а ряд необходимых работ просто не учтен. Затруднения с лесом, кирпичом и другими материалами, по мере развертывания работ, непрерывно возрастали. Неизбежный крах приближался.
Ловкий управляющий трестом нашел совершенно неожиданный выход из этого скандального положения. В один прекрасный день, придя на службу, я узнал, что он уехал в неизвестном направлении, оставив приказ о передаче мне обязанностей временно исполняющего должность управляющего трестом
[6]. Происходило это в 1937 году, через год после моего приезда во Владивосток. Как сумел мой шеф объяснить в Москве свое бегство, я не знаю. Очевидно, связи помогли ему как-то замять это дело и избежать расправы. Иногда своевременная перемена места жительства и работы спасали людей от репрессий.
Положение во Владивостоке, вне зависимости от хода работ в тресте, обострялось — чувствовалось приближение ежовского погрома.
* * *
Бывает иногда, эти все неприятности скапливаются и наслаиваются одна на другую. Жить тогда становится трудно. Такая обстановка сложилась в конце 1937 года. Недостаток материалов, простой строительных рабочих, прекращение финансирования банком из-за дефектности смет, травли в местной печати, репрессии со стороны властей — все это, как тяжелая лавина, надвинулось и грозило раздавить. Радости жизни и творчества исчезли, а осталось лишь ощущение страха и собственной беспомощности. Стало так тяжело, что я потерял желание жить.
Ко всем деловым осложнениям прибавилась новая забота — кампания по выборам в Верховный Совет СССР. Когда я явился по вызову в Областной исполнительный комитет, меня удивила суета, торжественность и озабоченное выражение на лицах сотрудников.
— Получены указания от Крайкома партии о подготовке к выборам, — сообщил мне секретарь Облисполкома.
Все хозяйственники, вызванные в этом день на заседание, посвященное вопросам выборов, получили строжайшее указание выполнять вне всякой очереди все задания сформированных участковых комиссий по выборам. Появилось новое начальство — участковая комиссия с ее многолюдным штатом «активистов», призванных содействовать выборам. Начались непрестанные вызовы в Облисполком, в Крайком, звонки по телефону с требованиями «немедленно», «срочно», «вне всякой очереди» — выделить автомашины, материалы и обстановку для оборудования помещений. Угроза — передать дело в НКВД «за срыв кампании» повисла в воздухе, как грозовая туча. Создавалось впечатление, что весь аппарат Крайкома, Облисполкома и Горсовета только и занят кампанией, что вся остальная реальная жизнь замерла. В ущерб основной оперативной работе пришлось передать избирательным комиссиям легковые автомашины, изыскивать способ для приобретения красного кумача и фанер для оборудования избирательных кабин, выделить половину конторского помещения участковой комиссии, но требования не прекращались и сыпались, как из рога изобилия. Собрания сменялись собраниями, а заседания — заседаниями.
Кандидаты выделены Крайкомом и утверждены Москвой к баллотировке по Приморскому краю. Эти никому не известные люди, по-видимому, должны пройти делегатами — один в Верховный Совет и один в Совет Национальностей.
Что сулит эта новая политическая акция Политбюро? Этот вопрос не может не интересовать меня. Слишком много энергии затрачивается на предвыборную кампанию со стороны партийных и административных органов.
Никто не знает этих «выдвиженцев», но зато их знает партия.
Можно ли выдвинуть других кандидатов и возможно ли это будет осуществить? Выборы в Верховный Совет проводится впервые и техника выборов еще не ясна. На собраниях обсуждаются только две предложенные кандидатуры. Никто не смел и помыслить выдвинуть другого кандидата.
Секретарь партийной организации треста на последнем предвыборном собрании грозил всеми карами тому, кто не явится на выборы. Активность будет определяться не только явкой, но и своевременностью подачи бюллетеня.
Все должны явиться и опускать свои бюллетени в первый же час после открытия избирательного участка, — заявил парторг, и это было всеми воспринято, как распоряжение карательных органов, стоящих за его спиной.
— Чем раньше вы явитесь на избирательный участок, тем лучше. Этим будет доказано ваше желание выполнить свой долг перед Родиной, — сказал председатель, закрывая собрание.
Наступил знаменательный день выборов в Верховный Совет.
Выборный участок разукрашен флагами и портретами вождей партии и правительства. Толпа людей заполняет лестницу помещения участка. Люди с озабоченными лицами спешат получить бюллетени и зарегистрировать свою явку. К участку непрерывно подъезжают мобилизованные легковые автомашины, на них активисты привозят стариков и больных «проголосовать свою волю». В большом зале, за длинным столом, покрытым кумачом, разместилась участковая комиссия, перед столом — избирательные урны. Человек восемь, а среди них и мой парторг, с серьезными сосредоточенными лицами проверяют по алфавитным спискам избирателей, выдают конверты с вложенными бюллетенями и отмечают галками фамилии явившихся на участок. Один из членов комиссии торжественно вручает мне конверт с бюллетенем.
«Активист» с остреньким, сухоньким лицом указывает дорогу в комнату, где вдоль стен размещены избирательные урны, задрапированные кумачом, с занавеской на дверях. В кабине столик с чернильницей, перьями и кресло. Вхожу в кабину и вытаскиваю из конверта бюллетень. На бюллетене отпечатаны уже известные по предвыборным собраниям фамилии двух кандидатов. Я в нерешительности — что же я должен делать в этой кабине, куда меня привели? Выглядываю из-за занавески и наивно спрашиваю активиста:
— Что, может, я должен скрепить бюллетень своею подписью?
— Нет, что вы! — полушепотом отвечает активист. — Это будет считаться испорченным бюллетенем. Никаких пометок. Вы должны только вложить бюллетень, запечатать конверт и… идти опустить в урну.
Я в недоумении — зачем же тогда эти кабины, ручки, чернильницы, вся эта предвыборная суета, работа сотен людей и трата народных денег на всю эту громоздкую выборную машину?! Но недоумевать можно только про себя. Я запечатываю конверт с бюллетенем и опускаю его в урну.
На следующий день парторг с искаженной злобой лицом сообщил мне конфиденциально:
— Подумай, пять бюллетеней оказались при подсчете испорченными. — Фамилии кандидатов зачеркнуты, и вписаны фамилии Бухарина, Рыкова и других оппозиционеров.
Озабоченный неполадками в работе, я реагировал на это сообщение равнодушно.
В газете появилось сообщение, что в выборах участвовало 99 % избирателей и единогласно выбраны два никому неизвестных гражданина, предложенные партией.
* * *
В 1937 году НКВД начало планомерное выселение китайцев. Бедных юли-юли делили на две категории: китайских и советских подданных. Сначала выселили китайских подданных, а потом арестовали и выслали и всех советских подданных. Многие китайцы, как первой, так и второй категории, были женаты на русских и имели детей. Это не помогло ни тем, ни другим, и русские жены китайцев разделили судьбу мужей.
Во время этих массовых выселений я случайно познакомился с условиями жизни китайцев во Владивостоке. Горсовет предложил нашему тресту взять один из освобождаемых китайцами домов для рабочих. Наши рабочие не были избалованы хорошими условиями жизни, и даже новые дома строили из расчета одной комнаты на семью в четыре человека. Когда я пришел осматривать дом, только что освобожденный китайцами, то убедился, что он не имеет комнат в обычном смысле этого слова. Вдоль коридора шел ряд темных клетушек, размером по несколько квадратных метров. В каждой такой клетушке и жила китайская семья. Двери клетушек еле закрывались, иногда вместо дверей висели какие-то лохмотья, помещения были ужасающе грязными. Даже ко всему привыкшие советские рабочие не могли жить в таком доме, и трест вынужден был от этого отказаться.
Тотчас же после выселения китайцев, НКВД взялось за корейцев. По данным Большой Советской Энциклопедии, на Дальнем Востоке жило около 150 000 этих скромных и мирных тружеников. Многие корейцы занимались огородничеством на сопках, окружавших Владивосток. Жили они в своеобразно построенных домах, с трубами, проходившими под полом жилых комнат. Помимо огородников, среди корейцев много самых разнообразных ремесленников и рабочих. В городе можно было постоянно видеть кореянок с поклажей на голове. Манера носить тяжести на голове позволяла издали отличить кореянку от русской.
Выселяли корейцев так же, как и китайцев, только последствия их выселения оказались более ощутимые для города — стало не хватать ремесленников многих специальностей, а с рынка исчезли овощи.
Я уже и тогда слышал, что китайцы и корейцы — советские подданные — попали не в концлагеря, а были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Попав во время войны в эти области СССР, я лично увидел своих знакомцев по Владивостоку. Советской политикой массовых депортаций — перемещения той или иной части населения с насиженного места достигалось политическое обезвреживание возможных противников. Человека, попавшего в новые, трудные условия, так поглощала борьба за существование, что он не мог и думать о сопротивлении.
Подобная политика проводилась большевиками не по национальным, а по политическим соображениям — следом за китайцами и корейцами настала очередь коренного населения Владивостока, тех советских граждан, которые помнили Владивосток свободным портом и пережили враждебные большевикам правительства эпохи Гражданской войны.
Выселение коренных жителей проводилось, как массовое мероприятие, в жестокой форме с большой систематичностью. К домам намеченных жертв подъезжал грузовой автомобиль с двумя матросами и сотрудником НКВД. Люди грузились с вещами, которые могли собрать в последний момент и увозились в неизвестном направлении.
Помимо плановых депортаций, по городу шли обыски и аресты. В тресте первой жертвой ежовской чистки оказался инженер 3. Когда он однажды не пришел на службу стало известно, что он арестован, я обратился в НКВД, пытаясь выяснить, в чем дело. Встретили меня грубо, насмешливо и, после моего заявления, что я хочу узнать причину ареста сотрудника моего учреждения, посоветовали убираться по-добру, по-здорову и радоваться, что сам пока на свободе. 3. вернулся через полгода — худой, беззубый, подавленный. Из НКВД мне сообщили, что я могу его снова принять на работу, и обязан выплатить зарплату за время заключения. Вскоре выяснилось, что 3. стал инвалидом, почти неспособным к работе. Оставшись как-то со мной наедине, он рассказал, что в тюрьме его связанного избивали.
Был также арестован и затем выпущен бухгалтер треста, бывший белый офицер. Это случилось с ним в восьмой раз. Освобождение обоих объяснялось концом ежовского погрома и временным затуханием в связи с этим репрессий.
В разгар ежовщины произошел еще один арест, невольным свидетелем которого оказался я сам. В то время я жил в небольшом особняке, где занимал отдельную квартиру. Соседка, скромная женщина, статистик по профессии, жила вдвоем с восьмилетней дочерью. Однажды ночью я услышал, что кто-то барабанит пальцами по стеклу окна. Спал я, как и все советские люди в те времена, чутко и беспокойно. Услышав стук, я подошел к окну и увидел на фоне слабо освещенной улицы три фигуры. Это были — управляющий домом и сотрудники НКВД. Я был уверен, что пришли за мной. Чем могла быть опасна советской власти одинокая женщина, отдававшая все силы службе и воспитанию дочери? С этой мыслью я открыл парадную дверь. К моему удивлению, управдом указал агентам на дверь моей соседки. Стоя у окна, я смотрел на мертвую, пустую улицу и не находил в своей душе покоя от сознания, что пришли не за мной. А из комнаты соседки слышался плач разбуженной девочки и взволнованный голос матери. Слов нельзя было разобрать, но голос делался все напряженнее и перешел в истерический крик.
— Что они с ней делают? Бьют?
Я выбежал в коридор и взялся за ручку двери, за которой происходила расправа.
— Что тебе надо? Обернулся ко мне один из НКВДистов, — закрой дверь и уходи, пока сам цел!
Я только увидел беспорядок, полные ужаса глаза девочки и бледное, искаженное лицо матери. Ее не били, а арестовали и навсегда разлучили с единственным ребенком. Что мог я сделать? Угроза ареста не была пустой фразой.
Нервы не выдерживали. Можно ли работать и закрыть глаза на все окружающее? Где искать выхода?
Арестованную женщину увезли сотрудники НКВД, а девочку утром управдом отправил в детский дом, где ее должны были заставить забыть о матери.
Вскоре в квартиру арестованной вселился работник НКВД. Не было дня, чтобы в соседней квартире я не слышал грохота падающей мебели, ругани и криков. Новый сосед постоянно бывал «под градусом», а жена ходила с кровоподтеками на лице. Это вынудило меня переехать.
Волна арестов распространилась на большую часть жителей города. При моем ограниченном круге знакомств приходилось все время сталкиваться с новыми трагедиями.
В тресте работал молодой инженер. Мы познакомились, и я стал бывать у него в доме. Сестра инженера, девятнадцатилетняя Леночка, была замужем и работала в кооперации. Вместе с ней работала дочь сосланного священника. Как потом выяснилось, право на труд она купила тем, что работала в НКВД секретным осведомителем. Однажды эта несчастная рассказала Леночке известный анекдот об отмене буквы «М». Анекдот сводился к тому, что в СССР буква «М» не нужна, потому что все равно Мануфактуры нет, Мыла нет, Масла нет, Мяса нет, Муки нет, а из-за одного наркома пищевой промышленности Микояна оставлять в алфавите лишнюю букву не имеет смысла.
Леночка не могла не улыбнуться, выслушав этот анекдот. Вернувшись домой она рассказала об этом мужу. По советским законам, Леночка обязана была сообщить в НКВД о поведении дочери священника. Она, конечно, этого не сделала.
Через несколько дней Леночку арестовали и осудили на 8 лет за контрреволюционную агитацию. В момент ареста она была беременна, но это не явилось препятствием для ареста, и ребенок родился уже на Колыме. Совершенно раздавленный всем происшедшим муж, чтобы сохранить место в жизни, вынужден был официально отказаться от жены «контрреволюционерки». После всего случившегося мне стало тяжело бывать в их доме, а жизнь во Владивостоке стала для меня еще более постылой.
Аресты и тяжелая обстановка на строительстве создавали атмосферу постоянного беспокойства и напряжения. Выпущенный из заключения бухгалтер как-то рассказал мне, что одним из выдвинутых против него обвинений было слушание и хранение заграничных «белогвардейских» пластинок, в частности пластинки «Молись кунак» в исполнении Вертинского. Многие советские люди, а особенно советская элита, увлекались Лещенко и Вертинским, слушая их в тесном семейном кругу. Эти пластинки матросы ввозили контрабандно, а таможня, обнаружив, отбирала и передавала в закрытые магазины НКВД, откуда они и проникали на рынок. Нужно сказать, что эти пластинки на рынке, из-под полы, продавались по 250–300 рублей за штуку, тогда как советская пластинка стоила 2–3 рубля.
Я тоже любил этих певцов и имел дома несколько пластинок, напетых Лещенко и Вертинским. Когда бухгалтер рассказал мне, как ему пришлось плохо из-за этих крамольных пластинок, я, вернувшись домой, решил спрятать подальше от греха эти пластинки, но не нашел их на месте. Оказалось, что моя уборщица, в мое отсутствие, не спросив разрешения, наслаждалась в одиночестве заграничной музыкой. Проигрывала она пластинки, как мне передали соседи, не закрывая окон и не принимая других, обычных в этих случаях мер предосторожности. «Преступление» осталось не обнаруженным, и меня не обвинили в «контрреволюционной пропаганде по статье 58, § 10»…
Несмотря на многие трудности, работа треста постепенно налаживалась. Помогало наличие строительного батальона. Были построены кирпичный и лесопильный заводы и налажена заготовка леса силами батальона. Послать в лес обычных рабочих для треста было ничуть не легче, чем для любого леспромхоза: сразу вставал вопрос о жилищах, переброске и снабжении. Военизированная рабочая сила упрощала дело. Достаточно было распоряжения, и красноармейцы перемещались в пункт назначения. Обеспечение жильем тоже упрощалось, так как красноармейцы могли жить зимой в отапливаемых палатках с двухъярусными нарами, а питаться в походной кухне. Договорившись с Леспромхозом и передав ему 250 красноармейцев батальона на время заготовки, я мог, не выходя из смет, обеспечить строительство материалами.
Это вынужденное для треста мероприятие тяжело отзывалось на красноармейцах. Им приходилось переносить все трудности зимней жизни в Уссурийской тайге.
Положение красноармейцев строительного батальона, по сравнению с обычными воинскими соединениями, было более тяжелым. Батальон имел параллельно строевое и техническое начальство. Командира батальона замещал военный инженер — помощник по технической части, а командиров взводов — техники-десятники. Выполнив днем задания по строительству, как обычные рабочие под руководством технического персонала, красноармейцы должны были вечерами проходить курс военной подготовки под руководством строевых командиров.
Все это рассматривалось красноармейцами, как наказание. Состав батальона был специфический помимо рабочих строительных специальностей, батальон в значительной своей части состоял из сыновей кулаков и лиц политически неблагонадежных.
Не успел я несколько наладить работу треста после бегства бывшего управляющего, как пришлось столкнуться с новым испытанием.
Однажды меня вызвали по телефону и предложили приехать в управление Дальлага. Во Владивостоке Даль-лаг имел большой пересыльный лагерь заключенных для пополнения Колымы. Из-за недостатка пароходов, в пересыльном лагере скопились заключенные, и Дальлаг хотел найти им рациональное применение.
Нечего и говорить, что предложение это осложняло работу. Помимо чисто моральной стороны этого дела, с которой, в конце концов, можно примириться, потому что работать на строительстве заключенным все-таки лучше, чем в концлагере, в предложении Дальлага были другие весьма щекотливые стороны. Дальлаг требовал, чтобы трест платил за каждого рабочего по 8 рублей 60 копеек в день. Занять неквалифицированных заключенных можно только на самых примитивных планировочных земляных работах и на рытье котлованов. Предо мной, как руководителем предприятия, вставала сложная проблема. Расценки на земляные работы были низкими, и 8 рублей 60 копеек в день мог выработать только опытный сильный рабочий, заключенные же, истощенные долгим пребыванием в тюрьме и лагере, не могли справиться с таким заданием. Опасения мои впоследствии подтвердились. Переговоры с представителями Дальлага закончились тем, что отказаться от заключенных я не смог. Калькуляция Дальлага подсчитана и детально «обоснована». Мои попытки уменьшить расценки ни к чему не привели. Рыжий НКВДист накричал на меня, обвиняя в антигосударственных тенденциях, и я сдался. Можно было самому попасть на Колыму, но нельзя было отказаться от «любезного» предложения Дальлага.
Оказалось, что дневная оплата заключенных подразделяется на следующие неравные части: дневная заработная плата заключенного, часть которой записывается на его личный счет и выдается при освобождении — 30 копеек; питание и одежда — 1 рубль 50 копеек; амортизация инвентаря бараков и других зданий — 1 рубль 10 копеек; на содержание аппарата НКВД — 5
рублей 70 копеек). Две трети заработка заключенного, таким образом, поглощались содержанием полицейских органов страны!
Работая в Наркомате финансов, я знал, что финансирование административных и оперативных расходов органов НКВД по бюджету проводится только частично, а основная часть расходов покрывается за счет сумм, полученных от внутренних доходов — поступлений. Расшифровка калькуляции явилась деталью, освещающей, в каком размере покрываются затраты в несколько десятков миллиардов рублей, без отражения их в бюджете СССР.
Вольнонаемный строительный рабочий в предвоенный период зарабатывал на Дальнем Востоке в месяц 350–400 рублей. Заключенный же обходится НКВД, включая питание и зарплату, в месяц 54 рублей, таким образом, с каждого раба, использованного на строительстве, НКВД получало на покрытие расходов системы — 300–350 рублей в месяц, как разницу между сметными и фактическими затратами на строительство.
Количество заключенных составляло по СССР, примерно, 10 млн человек, следовательно, разница в заработной плате достигала порядка 40 млрд рублей — вне бюджетных средств НКВД, покрывающих расходы на аппарат и полицию.
Надо учесть к тому же, что труд заключенных применялся, главным образом, на отдаленных неосвоенных окраинах и переброска туда вольнонаемных рабочих потребовала бы дополнительных расходов на подъемные. Подъемные выплачивались в соответствии с кодексом законов о труде тем рабочим, которые должны были ехать на работу на Дальний Восток по двухлетнему контракту и включали стоимость проезда рабочего и его семьи по железной дороге, зарплату в пути и т. д. В среднем это составляло 1200 рублей на человека. Доставка заключенного, учитывая, что возили их в товарных вагонах по 50 человек на теплушку, обходилась в среднем в 60–70 рублей на человека. Государство таким путем экономило большие суммы на освоении окраин и на содержании полицейских органов террора. Экономия на зарплате и переброске давала более чем достаточные средства для покрытия расходов на содержание 2-миллионной полицейской армии и аппарата НКВД.
Нужно к тому же учесть, что один заключенный на драгах добывал на Колыме в среднем один золотник золота в день. В переводе на дореволюционный рубль, это — 4 рубля золотом, в то время, как содержание одного заключенного в день, в переводе на тот же дореволюционный рубль, обходилось не более 13–15 копеек. Советское «рабоче-крестьянское» правительство от эксплуатации труда заключенных — рабочих и крестьян — получало, таким образом, баснословные средства для финансирования вооружений и аппарата НКВД.
Для меня стало неоспоримым, что порочная бюрократическо-полицейская советская система могла существовать, только применяя все в возрастающем масштабе рабский труд. Это значило, что Политбюро не сможет никогда отказаться от политики массового террора, не только по политическим, но и по экономическим соображениям.
* * *
Присланным на строительство заключенным не под силу было выполнять нормы вольнонаемных рабочих, и это создавало некоторые финансовые затруднения для треста.
Большинство заключенных были крестьяне, обвиненные в контрреволюционной пропаганде и сосланные на длительные сроки в лагеря. Вечно голодные, одетые в лохмотья — они производили удручающее впечатление.
Среди заключенных был незначительный процент уголовных. Одного из них — инженера-строителя, осужденного за убийство в состоянии аффекта, мне разрешили использовать на работе в канцелярии, что было для него избавлением от тяжелых земляных работ на холоде, под дождем.
Незадачливой оказалась судьба у этого инженера. По его словам, он был страстный охотник. Однажды его охотничья собака загрызла десяток кур у соседа, где он жил на даче. Сосед предупредил, что если это повторится, то собаку он уничтожит. Меры предосторожности не помогли, и собака вновь загрызла несколько кур. Собаку сосед втихомолку отравил. Возвращаясь домой с охоты, без собаки и без добычи, инженер, проходя мимо соседского дома, услышал с веранды насмешливый голос:
— Ну как, много дичинки набили?
Бедняга говорит, что сам не помнит, как взвел курок и выпалил в лицо соседу. За убийство в состоянии аффекта он получил 10 лет концлагерей.
* * *
Отразились на работе треста и Хасанские события. Первые бои с японцами обнаружили техническую не подготовленность Красной армии. Подвоз снаряжения задерживался. В короткий срок эшелоны забили всю железнодорожную магистраль от Владивостока до Читы и дальше. В этих условиях получать необходимые строительные материалы стало почти невозможно.
Ушел на фронт и строительный батальон, якобы для выполнения каких-то работ в тылу. После ликвидации конфликта батальон возвратился с сильно поредевшим составом и, включившись в работу, получил позднее несколько сот человек нового пополнения.
Людские потери на Хасане строго скрывались, и командир батальона объяснил убыль тем, что как раз в это время многие красноармейцы отслужили свои сроки и были демобилизованы.
* * *
Боязнь ответственности и стремление свалить вину на другого часто приводила к столкновению между руководящими работниками связанных общей работой учреждений.
На этой почве у меня произошел конфликт с управляющим Дальгосрыбтреста Карапотницким, одновременно занимавшим и крупный партийный пост — члена бюро Крайкома партии. Причиной столкновения была задержка строительства рыбного комбината в бухте Витязь, расположенной вблизи озера Хасан.
Работа эта производилась нашим трестом на подрядных началах для Дальгосрыбтреста. Причина задержки проста: Карапотницкий не выделил морской транспорт, находившийся в его распоряжении, чем нарушил, как заказчик, подрядный договор.
Началось с травли меня, как виновника срыва строительства, в местной прессе. Газета «Приморская звезда» посвятила несколько «подвалов» моей «преступной деятельности». Такое начало не предвещало ничего хорошего и я болезненно реагировал на несправедливость. Приближалась ежовская чистка и начались репрессии. Я не чувствовал себя в чем-либо виновным и видел, что добросовестная работа не находит должной оценки.
Вскоре меня вызвал к себе секретарь Приморского Крайкома партии Пегов, для разбора дела о задержке строительства в бухте Витязь. Молодой человек, лет тридцати с небольшим, быстро выдвинувшийся на комсомольской и партийной работе, Пегов принял меня дружелюбно. На совещании в кабинете Пегова Карапотницкий, волнуясь, пытался доказать свою правоту, выпячивал грудь, украшенную орденом Ленина.
Стараясь сохранить спокойствие, я привел ряд неоспоримых аргументов и цифр о фактическом положении, но, по правде, мало рассчитывал на успех. К моему удивлению, Пегов, слушая Карапотницкого, посматривал на него иронически и высказал ряд критических замечаний по его адресу. Я вышел после совещания с чувством некоторого беспокойства. Все же доводы мои были выслушаны, но это не всегда удавалось в таких случаях.
Через несколько дней я узнал, что Карапотницкого задержали работники НКВД при выходе из своей квартиры и увезли на автомобиле. Позднее стало известным, что ряд ответственных партийных работников Хабаровского и Приморского краев, в их числе и Карапотницкий, расстреляли по обвинению в создании конспиративной организации, которая при поддержке Японии, должна была свергнуть советскую власть на Дальнем Востоке. В награду японцы якобы обещали Карапотницкому и другим участникам заговора посты министров марионеточного Дальневосточного правительства. Хотя Карапотницкий и был мне несимпатичен, все же я не мог поверить в правдивость этих обвинений. Какова действительная причина их уничтожения — остается тайной НКВД.
Эти последние события еще больше укрепили меня в убеждении, что вся советская система владычества построена на том, что даже высший партийный аппарат время от времени умышленно уничтожается. В понимании вождей, ответственные работники не должны засиживаться, чувствовать себя уверенно и приобретать вкус к властвованию. Уничтожение части кадров и замена их новыми приводила к тому, что аппарат делался менее самостоятельным и более покорным, к тому же смена вызывала более интенсивный рост снизу, открывая «дорогу в жизнь» молодым кадрам.
Это напоминает стрижку живых изгородей — они делаются свежее, зеленеют и сохраняют нужную форму. «Стрижка» кадров пополняла лагеря заключения свежим и более трудоспособным людским товаром, и одновременно укрепляла власть.
Избавившись от нападок Дальгосрыбтреста, я все же не ощутил ни особенной радости, ни удовлетворения. Главное испытание, связанное с моей работой на Дальнем Востоке, было еще впереди.
Отчасти в связи с событиями на озере Хасан, Политбюро приняло специальное решение о преобразовании Владивостока исключительно в военный порт и о переводе, в связи с этим, всех гражданских учреждений в бухту Находка. Работы по строительству нового порта и жилфонда поручены Дальстрою НКВД, наркомату морского флота и нашему тресту. Сроки установили жесткие, и мне пришлось принять экстренные меры, чтобы не сорвать предложенный план строительства.
Советское хозяйство часто напоминает «тришкин кафтан» — чтобы починить рукава, приходится отрезать полы. Выполнить успешно и в срок все плановые и внеплановые задания — невозможно. Важно в таких случаях вовремя учесть, за нарушение каких директив придется нести большую ответственность. Поскольку было ясно, из решения Политбюро, что отвечать придется в первую очередь за строительство в Находке, мне пришлось собрать неиспользованные еще строительные материалы со всех других объектов, заморозив другие стройки. Эти мероприятия позволили выполнить план по Находке на 90 %.
Положение моих партнеров по строительству оказалось хуже. То ли они не сумели вовремя «обрезать полы», чтобы «залатать рукава», то ли условия их работы были не благоприятными, но план «Морфлот» выполнил на 20 %, а Дальстрой НКВД — на 25 %. По-видимому, само задание оказалось невыполнимым — углубить залив так, чтобы океанские суда могли подходить к причалам, — не удалось и впоследствии. Но все это выяснилось значительно позже. В этот же период, когда обнаружилось катастрофическое невыполнение плана, все руководители, непосредственные виновники «срыва» строительства, были вызваны в Москву.
Казалось бы, при выполнении плана на 90 %, по сравнению с 20 и 25 % «Морфлота» и НКВД, я мог ехать спокойно, но кто мог предугадать, чем кончится вся эта история?
В своем Наркомате в Москве, на приеме у заместителя Наркома Николаева, я сразу понял, что дело принимает серьезный оборот. Николаев встретил меня любезно, внимательно выслушал и, просмотрев все материалы, не сделал критических замечаний. Это внушило мне некоторые опасения. Из дальнейшего разговора я понял, что это имеет основание — материалы о срыве плана были затребованы Государственным контролем. Возглавлял Госконтроль грозный Мехлис, а разбор дела о выполнении решения Политбюро о строительстве в бухте Находка взяла на себя заместитель председателя Госконтроля, не менее грозная Землячка.
На доклад к Землячке мы должны были идти вместе — Николаев и я. Мне стало ясно, что Николаев хочет выставить меня главным докладчиком, а самому остаться в тени. Имя Землячки хорошо известно: в начале революции она возглавляла Петроградское ЧКа и именно ей принадлежит «честь» расстрела Гумилева и многих других представителей петроградской интеллигенции.
Конечно, этот визит не сулил мне ничего хорошего. Лучше выдержать любой натиск Николаева, чем идти к Землячке. Но делать нечего, и я сдал фотокарточки и паспорт в спецчасть Наркомата для оформления пропуска в Дом правительства. Работник спецчасти предупредил, что оружие при себе иметь запрещено. Землячка принимала в доме Совнаркома, на углу улицы Горького.
Николаев, ехавший со мной в машине, старался держаться спокойно, но я видел, что он нервничает. Волнение замнаркома передалось и мне. Кто такая эта женщина — беспристрастный судья чужих ошибок? К ней легче войти, несмотря на все проверки, чем от нее благополучно выйти. Переступая порог парадного с мыслями, что, возможно, я уже не свободный человек и что на моем примере лишний раз будет показана ответственность руководителей за выполнение решений Политбюро.
Какими далекими и наивными казались мне мои столь еще недавние соображения об инициативе и оперативности в работе. Остался от всего этого только страх перед машиной принуждения — и больше ничего. Заместитель Наркома, которого я сам побаивался накануне, теперь, вижу, чувствует себя, как школьник.
Роскошное парадное. В пропускной проверяют паспорт, вертят его, перелистывают, сверяют «натуру» с фотографией, «запахло» Лубянкой…
Одновременно с нами пришли — Замнаркома морского флота Дукельский, среднего роста, худощавый, и самодовольный начальник отдела капитального строительства НКВД, представляющий Дальстрой. Я вижу, что они проходят такую же проверку и это несколько успокаивает. Лифт поднимает нас на этаж, где находится резиденция Землячки. Нас встречают у двери три человека в форме НКВД — процедура проверки повторяется.
После этого нас вводят в приемную. Поражает роскошь: ковры, бронза. Кабинет-зал великолепен. За письменным столом, в стороне, сидит сухая старушка. Она поднимает темные, сверлящие глаза, кивает головой и осматривает вошедших по очереди с ног до головы.
Да, эти глаза видели многое, — думаю я. Их не разжалобишь, они привыкли отыскивать в человеке только то, что необходимо для обвинения.
Секретарь просит занять места за большим столом для заседаний. Землячка встает и приближается. Николаев ерзает на стуле, теряет гордую осанку Дукельский и садится прямее представитель НКВД. Все волнуются, по-видимому, не менее моего. Чувствую, что в этой роскошной и зловещей комнате уверенность в себе у всех пропала.
Интересно, как она начнет? — думаю я.
Старуха подходит к столу, наклоняется вперед и, вытянув руку с сухими длинными пальцами, приглушенным голосом говорит:
— Вы что!., думаете отделаетесь только потерей партийных билетов… думаете можно шутить с решением Политбюро? И ее длинный палец, как твердый клюв, ударяет в такт словам по дереву стола.
Тук… тук… тук…
Слова ее страшны не смыслом… они бьют по нервам, по сознанию, как будто клюв хищной птицы долбит по темени: тук… тук… тук…
Землячка берет под обстрел Дукельского. Тот встает, хочет что-то сказать в свое оправдание, но язык его не слушается, речь несвязна. Я вижу, что и представитель НКВД нервничает, а у Николаева дрожат руки. У меня появляется чувство осужденного. Землячка прерывает Дукельского, как мальчишку, не выучившего урок, и опять говорит о том, что дело пахнет не только потерей партийного билета. Хорошо, что я не в партии, — думаю я и, если будет только эта санкция, то я ничего не теряю.
Видимо, распекая Дукельского, как выполнившего план хуже всех, Землячка косвенно нападает и на представителя всесильного НКВД, которого укусить трудно даже ей — Землячке. Закончив разнос Дукельского, Землячка затихает и, зло посматривая, внимательно слушает доклады. Вот и моя очередь. Она ловит каждое слово, очевидно, подмечая все, что может помочь разобраться и обвинить.
Аудиенция закончилась. Николаев, кажется, доволен тем, что мы остались в тени и не привлекли к себе особого внимания Землячки. На улице он пожимает мне руку. Я вяло отвечаю. Все мое я возмущено и протестует против унизительной и гнусной экзекуции, которой мы только что были подвергнуты.
* * *
Знакомство с Землячкой окончательно привело меня к решению уехать с Дальнего Востока. Легко принять решение, но не так легко его выполнить. Случай и на этот раз выручил меня.
Народным комиссаром рыбной промышленности в это время назначили Полину Жемчужину, жену Молотова, «графиня Мама», как называли ее шутя некоторые сотрудники.
Полина Семеновна Жемчужина знаменовала собой новую эпоху в жизни коммунистического Олимпа. Если Землячка — олицетворение идеи карающего меча революции, то Полина Жемчужина (Молотова) воплощала лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!».
Приехала Жемчужина во Владивосток в специальном вагоне-салоне, бывшего поезда императора Николая II. С «наркомшей» приехал целый штаб работников наркомата, занявший помещение Рыбного управления на Ленинской улице.
Когда я пришел на прием с докладом, меня встретила сухощавая женщина лет 45 в мундире с адмиральскими нашивками. Элегантная черная форма копировала морскую военную (работникам рыбного наркомата присвоили эту форму), но с иной эмблемой на фуражке.
Разговор проходил в дружеском тоне, и я понял, что избран для демонстрации великодушия и милости народного комиссара. Говорила Полина Семеновна спокойно, с апломбом, слегка в нос.
Выбрав благоприятный момент, я попросил о переводе меня в столицу. Уже четыре года, вместо двух, я провел на Дальнем Востоке… Жемчужинамилостиво кивнула головой в знак согласия и тут же продиктовала секретарю распоряжение кадрам о подыскании мне замены и о выдаче двухмесячного оклада, как наградных.
— Я уже много лет не отдыхал, — поблагодарив, добавил я, обрадованный легкостью, с которой устраивалось мое освобождение.
— Вы правы, — снова кивнула Жемчужина, — мы ценим работников и умеем их беречь. Вы проведете отпуск в доме отдыха Совнаркома под Москвой.
Я простился.
Вскоре наркомша проследовала на эскадренном миноносце Дальневосточного флота для инспектирования рыбных комбинатов, разбросанных по побережью. Через некоторое время, зайдя в «Дальрыбу», я обратил внимание, что со стены в приемной снят портрет Ежова.
Ежовский погром коснулся Дальнего Востока в еще большей степени, чем других частей СССР. Казалось, не осталось ничего твердого в коммунистическом мире, кроме имени Сталина и Ежова. И вдруг репрессии начали стихать. Что это — затишье перед новым порывом грозы или передышка? Никто ничего не знал.
И вот портрет снят, не чей-либо портрет, а самого Ежова!
В учреждении тихо, но на лицах некоторых я замечаю торжество. Встречаю одного хорошего знакомого из свиты Жемчужиной и, отойдя в сторону, спрашиваю — в чем дело? Толстяк смотрит на меня весело, не понимая.
— Снят портрет Ежова, — поясняю я.
Глаза собеседника сияют.
— Вы знаете, — наклоняется он ко мне еще ближе, — Полина Семеновна, когда приехала на эсминец, то, как это полагается, командир, офицеры и мы сзади, пошли осматривать судно. В кают-компании, прямо против входной двери большой портрет Ежова. Жемчужина, как вошла, — прямо к портрету. Мы смотрим и не понимаем, что она собирается делать. А она на стул, вынула литографию из рамки и на мелкие кусочки… у всех во рту пересохло, а командир прямо остолбенел.
Мне живо представилась картина, как сухопарая, с худыми ногами, Жемчужина, стоит на стуле и снимает портрет Ежова.
— Теперь знаем, что царство Ежова кончилось, — добавил мой знакомый.
«Ежов умер, но дело его живет», — подумал я.
Вскоре после отъезда Жемчужиной, приехал мой заместитель, и я уехал из Владивостока в Москву.
* * *
В Москве я узнал, это Нина Семеновна снята с должности наркома рыбной промышленности и переведена начальником Главгалантереи, наркомата легкой промышленности в «главпуговицу», как тогда острили. Даже жена Молотова не могла усидеть долго на одном месте. Высокое положение «жены» позволило ей только, вместо того, чтобы попасть в концлагерь, стать «главпуговицей».
Я все же зашел к Полине Семеновне в ее новую резиденцию. Встретила она меня на этот раз очень сухо. Видимо, самолюбие почти «адмирала» было очень ущемлено.
— Я теперь не имею никакого отношения к Наркомату рыбной промышленности, — сказала она, стараясь не встречаться со мной взглядом, — обращайтесь к новому начальству.
О путевке в дом отдыха Совнаркома я уже не стал напоминать.

Глава IV
Налоговый пресс страны
Совет Жемчужиной — обратиться к новому наркому рыбной промышленности я не использовал. В Наркомате было много людей, знающих меня по работе и, в частности, заместитель наркома Николаев. Но «оседать» в этом Наркомате, и иметь узкий «рыбный профиль» у меня не было желания.
В Москве Наркомат рыбников не имел своей свободной жилплощади и обещал дать мне комнату «не ранее, чем через год». Но год, а может и больше, жить где-то нужно! Приходилось заниматься сложной, в условиях Москвы, квартирной проблемой.
Москва в 1939 году перенаселена еще больше, чем во время моего отъезда на Дальний Восток. Аппарат учреждений рос с невероятной быстротой, а жилищное строительство проводилось в ничтожных размерах.
Столицу питала вся страна. Каждый район имел плановую разверстку по «спецснабжению» Москвы. За расходование продовольственных фондов, предназначенных для Москвы, виновные карались в уголовном порядке. Людей соблазняло несравнимо лучшее, чем в провинции, снабжение и все старались всякими правдами и неправдами осесть в Москве. А власть ввела множество рогаток, препятствуя этому людскому наплыву. Без постоянной прописки в милиции нельзя получить работу, а не работая и не имея жилплощади, нельзя прописаться. Получался какой-то заколдованный круг, но голь на выдумки хитра!
Люди ехали к знакомым, родственникам, прописывались, устраивались на работу и забивали все жилые щели. Антисанитарное состояние таких коммунальных квартир трудно себе представить. А настоящим бичом москвичей стали клопы, бороться с которыми при такой тесноте было совершенно невозможно.
За время моего отсутствия мой друг, экономист Алексей, обзавелся семьей. Но как он мучился с жильем! Родители жены, он с женой и двухлетним сыном ютились в одной комнате. Его «апартамент» ограничивался углом комнаты, отгороженным шкафом и занавеской. В квартире из пяти комнат жило еще четыре семьи, так что все население этой типичной коммунальной квартиры составляло 15–17 человек! В таких условиях живет большинство рядовых москвичей.
И все же некоторые специалисты предпочитали жить в такой тесноте, но не хотели переселяться в новые дома, принадлежащие наркоматам. Служащий, получивший квартиру от учреждения, становился рабом этой квартиры, лишался даже той малой доли относительной свободы в выборе места работы, так как уход его с работы означал немедленное выселение из квартиры, что в условиях Москвы — настоящая катастрофа. Но все это, конечно, не распространялось на «власть имущих».
Сидя у друга за шкафом, я рассказывал ему, как живут некоторые москвичи. В тридцатых годах мне довелось бывать в доме Григория Михайловича Штерна. Тогда он был управляющим делами Реввоенсовета, жил в роскошной квартире, реквизированной в революцию у какого-то русского аристократа. Познакомились мы на курорте в Гаграх и, вернувшись в Москву, я бывал у него в доме. Столовая в его квартире напоминала зал, где за столом можно разместить 50 человек гостей. Софочка, жена Штерна, была радушной хозяйкой. Она с гордостью показывала мне свои владения, включая и кладовую, где хранились запасы продуктов, которыми можно насытить и сотню нежданных гостей. При виде такого количества всякой снеди — окорока, колбасы, сыра, икры — у меня вырвался наивный вопрос: зачем нужны такие запасы?
— Григория ведь снабжают из кремлевского распределителя, — ответила Софочка.
Мое недоумение рассеялось.
Под Москвой Штерну выделили прекрасную дачу, а гараж Реввоенсовета присылал «Паккард» в любой час дня и ночи, по телефонному звонку Штерна или его супруги. Вся эта роскошь бытия мало чем отличалась от условий барской жизни дореволюционной России.
Штерн родом из Прибалтики, с окладистой бородой и крепко сбитой коренастой фигурой, был человек волевой и с размахом. Он добился желаемого им перевода на оперативную работу. Прогремел во время операций на Хасане, а перед войной командовал Белорусским военным округом. Позднее его след потерялся.
Жена Штерна любила принимать гостей. В их доме можно было встретить многих известных людей советского «бомонда» — сановников, писателей, артистов. Там же я встретил однажды и Лилю Брик, сыгравшую трагическую роль в самоубийстве Маяковского.
Так жил Штерн, генерал: не напрасно же на его столе стоял портрет Ворошилова с собственноручной надписью: «Григорию Михайловичу в память нашей совместной поездки в Стамбул».
У меня же только скромное желание найти одну небольшую комнату. Пример Алексея, который, кстати сказать, не был заурядным винтиком в служебной машине, а был начальником отдела Центрального управления народно-хозяйственного учета Госплана СССР, — ничего утешительного мне не сулил. Однако, случай меня выручил. Отдел кадров, хорошо знакомого мне по прошлой работе наркомата финансов, предложил мне работу — заместителем начальника отдела по финансированию народного хозяйства, — и комнату. Правда, комната предоставлялась временно: хозяин ее, работник Наркомата, находился в шестимесячной командировке на периферии. Так я устроился на первых порах. На «замечательные условия» отдыха, обещанные Жемчужиной, да и вообще на какой-либо отдых, пришлось махнуть рукой и впрягаться в работу.
В это время Госплан и Наркомфин готовили материалы по бюджету и хозяйственному плану на наступающий новый год. Ряд проблем меня интересовал, и принять участие в этой работе мне представлялось интересным.
* * *
Вновь завертелось колесо бесконечных заседаний, согласований, спешных заданий и ночных работ. На Дальнем Востоке постоянно преследовала забота о людях, напряженные поиски выхода из тысячи осложнений, рассыпанных на пути советского хозяйственника, — плановой неразберихи и бюрократизма главков. Прошли те дни и ночи, когда приходилось ломать голову, как выйти из очередных «пик», как достать гвозди, лес, бензин, своевременно «занаряженные» планом, но не отгруженные заводом поставщиком, как обойти госбанк и получить кредиты, задержанные неподготовленностью смет. Здесь, в Москве, появились иные затруднения — как обеспечить разгрузку от завала бумагами. Планы, заявки, распоряжения с резолюциями наркома или его нескольких заместителей обрушивались сплошной лавиной, которую казалось невозможно остановить…
Иной раз даже не было возможности использовать свой законный получасовой перерыв, чтобы спуститься в полуподвальный этаж в столовую Наркомата. Время питания тысячи сотрудников Наркомата распределено по управлениям. Все торопятся и стремглав летят, чтобы успеть поесть и вернуться минута в минуту к своим столам.
В один из первых дней моего пребывания в Наркомате я как-то задержался в столовой на пять минут. За мной прибежала испуганная секретарша — оказывается, меня вызывал замнаркома. Она умоляла меня поспешить, иначе она вынуждена будет подать на меня рапорт.
Вот заканчивается рабочий день. Толпа сотрудников спускается потоком по лестницам. У входной двери какая-то заминка — это бдительный милиционер задержал молоденькую сотрудницу отдела финансирования капитального строительства Катю — она несла кальку. Зачем Катя взяла эти жалкие полтора метра кальки? Может хотела сделать носовые платки, как это практиковали женщины, умудренные житейским опытом и бедностью или может хотела дать брату на изготовление чертежей в школе? Но суть не в этом. Факт «расхищения социалистической собственности» был установлен. Катю судили, и она получила год принудительных работ. Катя плакала, убивалась, что этот позор ляжет пятном на всю ее жизнь. Но закон борьбы с хищениями настиг Катю в самом начале ее жизненного пути.
С монотонным однообразием тянутся дни и недели. В ежедневной бюрократической сутолоке я начинаю жалеть о потерянной мною оперативной хозяйственной работе. Согласованы с Госпланом лимиты капиталовложений, планы развития и финансирования отдельных отраслей хозяйства и культуры на новый наступающий год. Сконструирован и бюджет 1940 года, этот заключительный аккорд ежегодного производственно-финансового планирования.
Бюджет на 1940 год проходил в лихорадочной обстановке изыскания максимума ресурсов на финансирование военных расходов. Налоговый пресс трещал от все усиливающегося завинчивания. Режим экономии, сокращение административного аппарата, увеличение производительности труда и накоплений на фабриках, увеличение изъятия продукции у крестьянства, снижение качества продукции товаров широкого потребления, эти и подобное им мероприятия диктовались директивами ЦК ВКП(б). За этот год должны сделать больше в укрепления военной мощи, чем сделали за пятилетку, — такова официальная установка ЦК партии.
До составления бюджета 1940 года казалось, что пресс уже завинчен до отказа. Прибыль промышленных и торговых предприятий возросла с 6 млрд рублей в 1932 году до 63 млрд в 1940-м. Налог с оборота на товары массового потребления поднялся с 992 млн рублей в 1928 году до 105 млрд в 1940-м, или возрос больше, чем в 100 раз, в то время, как производство товаров широкого потребления увеличилось за этот период ничтожно.
Валовой розничный товарооборот страны был определен в 176 млрд рублей, включая дублированные торговые обороты. По отношению к этой цифре реализации налог с оборота занял 60 % удельного веса, 80 % процентов товарооборота обслуживались государственной торговой сетью и лишь 20 % кооперативной системой. Так осуществляются «заветы социализма» — об увеличении благосостояния населения и развития кооперации, как «столбовой дороги» к коммунизму.
Обложение населения косвенными налогами, в условиях коммунистической монополии всего хозяйства страны, оказалось наиболее просто осуществимым и наиболее удобным способом распределения товарных масс между военным и гражданским секторами. За пятилетки центр тяжести обложения перемещен на косвенные налоги: если в 1928–1929 годах налог с оборота составлял 1797 млн, а прямые налоги 673 млн, то в 1940 году налог с оборота уже выразился в 105,8 млрд, а прямые налоги в 9,4 млрд, или менее 8 % от всей суммы обложения.
Налог с оборота — это «худшая форма ограбления трудящихся» — трактует энциклопедия. Нарком финансов Зверев в своих официальных выступлениях и деловых беседах с сотрудниками именует налог с оборота — «доходами от социалистических предприятий», хотя налог и является худшим способом ограбления широких масс населения.
По представленным в Наркомат калькуляциям промышленной себестоимости пара тяжелой обуви обходится государству в среднем по СССР в 7 рублей 40 копеек, а легкой обуви — 6 рублей 90 копеек, при заготовительной цене на мелкое кожсырье у колхозного крестьянства — 1 рубль 90 копеек за штуку. Реализационные же цены на рабочую обувь установлены в среднем 120 рублей за пару, а Военному ведомству — 8 рублей за пару.
Полная промышленная себестоимость килограмма пшеничной муки 13 копеек, рыночная реализационная цена пшеничного хлеба — 1 рубль 70 копеек за килограмм, для Военного ведомства около 10 копеек, при заготовительной цене у крестьянства в 8 копеек за килограмм пшеницы.
Государство монополизировало хлебопечение и продает населению свыше 11 млн тонн хлеба в года, при себестоимости в среднем, включая издержки производства, одной тонны пшеничного хлеба 190 рублей, а выручает за тонну 1700 рублей.
Такие же государственные наценки существуют и по другим товарам: себестоимость сахара 83 копеек за килограмм, а реализационная цена 5 рублей 50 копеек; себестоимость спирта 90-градусного в среднем по Главспирту — 25 копеек за литр, а реализационная цена за бутылку 40-градусной водки — 15 рублей.
Никто не мешает «народной» власти диктовать цены и «цены» являются оплотом бюджета и мощи вооружения. Заместитель наркома, возглавляющий Управление финансирования народного хозяйства, вызывает к себе для доклада. Здесь у него в кабинете нет трескучих фраз пропаганды. Задача ставится четко и вполне конкретно — выжать до отказа все, что можно из обрабатывающей легкой промышленности и торговых предприятий, высвободить максимум средств на финансирование военной промышленности. Сидя на совещании у заместителя наркома, докладываю и слушаю доклады других. Все направлено к тому, чтобы «выжать». На лице замнаркома появляется довольная ухмылка, когда «винтики» докладывают плоды своих усилий, зафиксированные в расшифровке доходов.
Сухие цифры, но как много они говорят! В них отражаются полная лишений жизнь многомиллионного населения страны, подхлестываемого жестокой властью к тяжелому труду. Непосильный «стахановский» труд рабочих на фабриках, полуголодная жизнь горожан и нищета крестьян. Ни один роман не может дать той силы впечатлений, какие дают сухие цифры бюджета.
— Только наша великая сталинская хозяйственно-финансовая система может дать такую грандиозную мобилизацию ресурсов, — торжественно заявляет в заключении заместитель наркома и переходит к обсуждению расходной части бюджета на 1940 год.
Сводки по финансированию отдельных отраслей народного хозяйства мало имеют общего с тем, что будет докладывать нарком финансов на очередной сессии Верховного Совета. Суммы финансирования военной промышленности и вооружения распределены по отраслям хозяйства. По сводному бюджету, около 35 млрд рублей, ассигнованных на развитие военной индустрии, показаны по разделу «финансирование народного хозяйства». Военные расходы, по официальному бюджету, определены в 57 млрд, а в действительности достигают 90 млрд рублей.
Каждая фабрика, завод, колхоз, всякое лечебное медицинское учреждение и органы просвещения имеют свой мобилизационный план и расходуют по своим сметам на его проведение в жизнь большие суммы.
Военные рубли — это дорогие рубли: сталь 90-100 рублей тонна, нефть сырая 20 рублей тонна, а зарплата красноармейца 15 рублей в месяц.
Совещание тянется до полуночи. Я возвращаюсь домой под впечатлением цифр военного бюджета, вспоминая слова замнаркома:
— Военная индустрия и армия — эта сфера приложений производительного труда, и продукция военной промышленности имеет чрезвычайно большое потребительное значение.
Бисмарк сказал, конечно, значительно проще и яснее: «Пушки вместо масла».
* * *
Тогда, в 1940 году, работая в Наркомфине, я представлял, что расходы на военные нужды являются переходными возможностями СССР, что налог с оборота уже взвинчен до предела. Но вот отгремела война, и, будучи в Иране, в 1949 году, я прочел доклад Зверева о бюджете на этот год. Налог с оборота оказался увеличенным до 265 млрд рублей против 105 млрд в 1940-м. Отпускные цены на хлеб подняты в два раза. Финансирование военных расходов, по официальной сводке бюджета, возросло до 79 млрд рублей, или почти на 50 %, к официальным расходам 1940 года. Если учесть систему вуалирования и перераспределения военных затрат, то бюджет расходов на войну возрос, примерно, до 150 млрд рублей.
Невольно напрашивался вопрос — против кого же коммунистическая партия вновь готовит страну на «последний и решительный бой»?
* * *
Утверждение производственных планов и бюджета на новый хозяйственный год, как это обычно практиковалось Госпланом и Наркомфином, сопровождалось аналитическими расчетами о нормах потребления и налогового обложения на душу населения. Эти расчеты основывались на данных ЦУНХУ Госплана по исчислению народонаселения.
В процессе работы выяснилась некоторая растерянность аппарата Госплана. И нужно сказать, что эта растерянность была обоснованной. Результаты переписи, проведенной в 1937 году, партийные органы объявили «вредительскими». Руководящие работники, возглавлявшие перепись, — Кроваль, Осинский, Квиткин, Борзин и многие другие из аппарата народнохозяйственного учета Госплана были репрессированы, как «враги народа», а перепись объявлена недействительной. Меня заинтересовало, чем вызван «гнев» и последовавшие репрессии со стороны партии и правительства?
Помог мне разобраться в этом вопросе сотрудник ЦУНХУ Госплана, мой старый знакомый, окончивший одновременно со мной институт — Алексей. В домашней обстановке он мне поведал о причинах разгрома аппарата. Оказалось, что перепись провели вполне добросовестно и с соблюдением требований всякой переписи, но именно эта добросовестность и явилась гибельной для руководителей переписи.
Вполне очевидно, что в период составления перспективных пятилеток Кремль не предугадывал тех потрясений, которые вызовет коллективизация и голод 1930-х годов и допустил в планировании прироста крупный просчет.
Работники ЦУНХУ были прекрасно осведомлены также, как и Кремль, что рождаемость резко понизилась, а смертность возросла, но никто не желал брать на себя ответственность за пересмотр установок по пятилеткам естественного прироста населения, а диктатор до поры до времени молчал.
ЦУНХУ Госплана продолжало вплоть до переписи 1937 года ориентироваться на цифры плана, утвержденного Кремлем, не смея без команды ЦК ВКП(б) вносить существенные коррективы в статистические сводки движения населения. Так, например, по статистическим справочникам ЦУНХУ — «Народное хозяйство СССР», — за 1932 год показано количество населения по состоянию на 1 июля 1931 года в 162 млн человек и за 1933 год в 165 млн человек, т. е. примерно в цифрах плана.
«Робкое» поведение работников ЦУНХУ станет вполне понятным, если учесть, что аппарат, занимающийся учетом населения, находился постоянно под страхом репрессий, а с 1933 года его отделы на местах переданы в ведение НКВД.
На 17-м съезде партии, в январе 1934 года, Сталин заявил, что «население СССР к началу 1934 года достигло 168 миллионов человек».
Гроза разразилась только в 1937 году, когда ЦУНХУ, по данным фактической переписи, сообщило Кремлю цифру количества населения в 156 млн, при наличии количества населения по плану в 177 млн человек. Кремль не досчитался в своем «людском стаде» 20 млн человек и решил, во избежание скандала перед мировым общественным мнением, скрыть итоги переписи 1937 года, а группу работников из ЦУНХУ расстрелять.
Новому же аппарату ЦУНХУ дали задание готовиться к новой переписи. Террор сделал свое дело и по переписи на 17 января 1939 года население исчислено в цифре — 170,4 млн человек. Если принять возможный естественный прирост с 1937 по 1939 годы в 3–4 млн человек, то «статистический» прирост выразится, примерно, в 10–11 млн человек, что скрыто завесой тайны МВД.
Несмотря на подтасовку в итогах переписи 1939 года, партия не смогла скрыть факта деградации населения по сравнению с демографическими показателями дореволюционной России.
Естественный прирост населения за период между переписью 1926 и 1939 года упал до 1,22 на 100 жителей в год по сравнению с 2,23 по статистике за период 1908–1913 годы, или сократился на 46 %. Количество женщин превысило количество мужчин на 7,1 млн человек, причем за период 1926–1939 год этот разрыв возрос на 2,2 млн человек, в то время, как в дореволюционной России имелось даже незначительное превышение мужчин над женщинами. Количество детей в возрасте до 7 лет, по удельному весу ко всему населению, сократилось с 22,5 % барской России до 18,6 % в 1939 году, что было вызвано потерей детей в этом возрасте в количестве 6,8 млн человек.
Таковы итоги подтасованной ЦК ВКП(б) переписи 1939 года. Цифры эти проливают свет на то, почему партия разгромила аппарат народнохозяйственного учета Госплана в 1938 году, но, разгромив, сумела только частично завуалировать демографическую катастрофу. Людские жертвы народов России оказались грандиозными,
они превысили 50 млн человек. Разруха и голод периода военного коммунизма, голод 1930-х годов, репрессии — расстрелы и ссылки, подрыв устоев семьи и брака, изнурительная нагрузка на фабриках и в колхозах, непосильное налоговое обложение, жестокая спекуляция государства на товарах первой необходимости и гонка вооружений — это те «основные социально-экономические мероприятия» ЦК ВКП(б), которые и привели к грандиозным людским потерям, к падению рождаемости и увеличению смертности.
* * *
Вторая мировая война нанесла новый сокрушительной силы удар по народонаселению. Тактика, применяемая советским командованием — подавления противника живой силой — косила людей на фронтах, как сорную траву, а голод косил в такой же мере людей в тылах. Уже работая в Иране, я узнал из секретного информационного материала о результатах исчисления населения, проведенного в 1948 году. По данным этого исчисления, превышение женской части населения над мужской достигло 18 млн человек.
Демографическая катастрофа предстала во всей ее жуткой реальности — 18 млн женщин, потерявших право на семейную жизнь, 7 млн детей, потерявших право жить.
Таковы оказались итоги по исчислению народонаселения на 33-м году существования советской власти.
Анализируя демографические показатели населения СССР, я не мог прийти к выводу о гибельности тоталитарной системы для социального и экономического процветания страны.
* * *
После живой оперативной работы во Владивостоке бюрократическая бумажная рутина Наркомата стала меня все больше угнетать, и я стал искать пути перехода на другую работу.
Отсутствие постоянного жилья в Москве и случай — помогли мне в этом. Мой знакомый по Владивостоку получил назначение на работу в Павлоград — директором завода боеприпасов и предложил, что он оформит меня в Наркомате боеприпасов в качестве заместителя директора завода. Возражения отдела кадров Наркомата финансов были преодолены указанием на отсутствие жилья в Москве и ходатайством о переводе в распоряжение Оборонного наркомата, что и сыграло решающую роль.
С документом об откомандировании из Наркомата финансов я направился в отдел кадров Народного комиссариата боеприпасов, или сокращенно НКБ. Наркомат боеприпасов размещался на Мясницкой, недалеко от Чистых прудов. Большой дом с несколькими подъездами не имел, как обычно другие наркоматы, каких-либо указаний на то, какое учреждение здесь размещается. Пропускная внизу, в подъезде, напомнила мой визит к Землячке, в доме правительства в Охотном Ряду. Тот же порядок — охрана НКВДистов, согласование по телефону, проверка документов, запрещение вносить и выносить портфель и бумаги, разовые пропуска, большое количество охраны и людей в военной форме и полувоенизированной одежде, длинные очереди за пропусками, — создавали специфическую, отличную от других наркоматов, обстановку, даже при входе в Наркомат. Внутри широкие светлые коридоры и множество наглухо закрытых дверей, обитых звуконепроницаемым материалом, с номерами и звонками на косяках, но без каких-либо табличек и наименований отделов.
В пропуске указан этаж, номер комнаты, и только в эту комнату может явиться посетитель. Все это и особая холодность и сухость выражения лиц, встречающихся в коридоре, подчеркивали какую-то таинственность здания и его значительность.
В отделе кадров мне вручили анкету на 12 страницах для заполнения и предупредили, что «оформление» займет от двух недель до месяца и что анкета должна быть скреплена рекомендацией трех членов партии, знающих меня по работе. Очевидно, недоумение, написанное на моем лице, заставило начальника кадров пояснить мне:
— Вам должно быть известно, что работать в Наркомате могут только допущенные НКВД к совершенно секретной работе. За период оформления, после сдачи анкеты, вам будет выплачена зарплата, и вы будете числиться в резерве.
Длинная анкета с двумястами вопросами и рекомендациями была мною представлена и через две недели я стал сотрудником НКБ.
Изолированное помещение, по 2–3 человека сотрудников в комнате, узкая специализация компетенции отдельных лиц, строжайшее запрещение хранить бумаги в столе, а сдавать в особом личном портфеле-чемоданчике ежедневно в спецчасть, — резко отличали внешние условия работы от других учреждений.
Вскоре я убедился, что оперативные вопросы в этом Наркомате решаются быстро, бумажки не залеживаются, так как организован контроль за их исполнением; разговоров по личным вопросам сотрудники избегают. Большое количество замнаркомов, начальников главком и начальников отделов приближало руководство к исполнителям и создавало деловую рабочую обстановку. Жесткий контроль обеспечивал четкое руководство периферией и быстрое прохождение всей переписки, подразделенной на секретную и совершенно секретную.
Прошло два месяца на оформление и ознакомление с работой, и я выехал на место своей новой работы в Павлоград.
Небольшой, весь в зелени — Павлоград произвел на меня не плохое впечатление. Расположенный в тридцати километрах от большого индустриального центра Украины — Днепропетровска, Павлоград жил своей особой жизнью. Достопримечательностью этого города был завод боеприпасов, где работала значительная часть населения, и артиллерийский полигон для испытания снарядов.
Над заводом с его несколькими большими трубами постоянно висело облако зеленоватого газа, красочно освещаемое ночью светом прожекторов. Этот чисто военный профиль города сглаживался близлежащими колхозами и большим элеватором на железнодорожной станции, принимавшим от них украинскую золотистую пшеницу. Лицо Павлограда определяют взрывчатые вещества и ненасытные элеваторы, всасывающие зерно.
Завод жил под знаком все большего ускорения темпов производства взрывчатых веществ, а элеватор — под знаком ускорения приемки и отправки зерна.
Заводские постройки и погреба-склады детонирующих взрывчатых веществ размещались на значительной площади заводской зоны. Несколько в стороне шло параллельное строительство заводских построек, обеспечивающих увеличение выпуска продукции.
Производство взрывчатки и зарядных капсюлей все нарастало, все увеличивался поток железнодорожных составов со снарядами, годными для «пуска в эксплуатацию». Все больше нарастал и темп сдачи государству колхозного хлеба и усиливался поток эшелонов, увозивших хлеб в другие районы страны.
* * *
Одним из ударных заданий Наркомата боеприпасов было расширение производства, и в связи с этим строительство объектов под литерой 359. На этой работе мне и пришлось сосредоточить основное внимание. Снабжение всеми необходимыми материалами производилось бесперебойно. Любое требование удовлетворялось Наркоматом с поразительной быстротой.
Я невольно вспоминал условия Владивостока, когда из-за строительного металла или цемента приходилось «бомбить» Москву десятками телеграмм. Здесь же доставка сырья и материалов никогда не задерживалась, а все работы финансировались в пределах потребности.
«Болезни» и «страхи» всякого директора гражданской системы за перерасход фонда зарплаты, за невольный простой рабочей силы из-за недостатка материалов — отпадали. Выполнить план — это основное. Какие на это будут затрачены материальные, людские или финансовые ресурсы — мало кого интересовало. Дирекция отвечала за свои действия только перед Наркоматом, а все бесчисленные контролеры со стороны — вроде банка, госконтроля или партийных местных органов — лишены права вмешиваться в работу администрации. Подобная постановка дела увеличивала ответственность перед Наркоматом, но зато повышала инициативность и не стесняла руководство мелочной опекой.
Некоторые трудности возникли в связи с заданием использовать на работе выпускников-подростков школ фабрично-заводского ученичества. Это было как раз новое мероприятие правительства по созданию трудовых резервов. Для быстро возросшего военного производства не хватало квалифицированных рабочих. Система Главного управления трудовых резервов должна ликвидировать этот прорыв. Все колхозы, по решению Совнаркома, обязаны поставлять, помимо сельскохозяйственного сырья, «живой товар» из расчета по 3 подростка на каждые 100 человек колхозников, считая женщин, мужчин и стариков. Подростки в возрасте 14–16 лет наводнили школы фабрично-заводского ученичества и ремесленные училища. После краткого обучения эти трудовые резервы распределялись по промышленным и строительным предприятиям. В порядке «нагрузки» 300 человек молодежи прибыло на Павлоградский завод.
Это вызвало значительные трудности. Все жилые помещения уже занял работающий персонал в три смены, и ребят пришлось размещать в недостроенных корпусах и частично в отепленных палатках. На вид многим из них нельзя было дать больше 10–12 лет. Худенькие, шустрые мальчишки вовсе не желали чувствовать себя взрослыми рабочими. Производственных навыков ребята не имели, а по молодости лет интересы их сосредоточивались на забавах, но никак не на изнурительной работе. Освоить эти кадры значительно сложнее, чем казалось. Часто трудно было оторвать ребят от игр, вроде чехарды, лапты или катанья на вагонетках заводской узкоколейки.
Осуществление мероприятий по «освоению» ребят на производстве вызвало массу осложнений и неприятностей, без получения какого-либо производственного эффекта. Главный инженер завода хватался за голову и метался по заводу в поисках возможности использования молодняка, а парторг, задумчивый спокойный украинец, писал докладные записки и рапорты начальству о нетерпимом поведении новой рабочей силы. Зарплата начислялась, расходы росли. Но за весь период своего шестимесячного пребывания на заводе 300 ребят вряд ли оправдали работу 30 взрослых рабочих.
Работая на заводе, я столкнулся с производственной деятельностью нескольких колхозов, расположенных в окрестностях города. В павлоградских колхозах, как и во всем сельском хозяйстве Советского Союза, не хватало транспорта. Завод же был обеспечен транспортом выше потребности и грузовые автомобили простаивали. Я договорился с дирекцией об оказании помощи колхозам по вывозу зерна с полей и сдаче на элеватор в счет обязательных поставок государству. Выполнение этой задачи потребовало неоднократных выездов в колхозы для согласования использования машин колхозами.
Колхозы были поставлены в исключительно тяжелые условия работы. Местные районные органы — Городской совет, Районный совет, Сельский совет, Комитет партии, земельный отдел, финансовый отдел, местная печать, — не давали ни председателям колхозов, ни колхозникам «ни отдыха, ни срока». Директивы, распоряжения и указания о немедленном исполнении тех или иных заданий; требования о представлении различных сведений — о выполнении плана сдачи продукции, о подготовке к уборочной, об использовании машин и тягловой силы, о засыпке семенного фонда, о подготовке к севу озимых и т. п., — буквально наводняли канцелярию колхоза потоком бумажек, а формы бланков, которые требовали различные органы, достигали метровых размеров.
Какие только показатели не были включены в эти формы! Количество бригад, количество выходов в поле, количество отработанных трудодней, производительность труда, выполнение плана по сдаче государству продукции и пр.
Бесчисленные контролеры приезжали, требовали, грозили, стучали по столу, а администрация, учетчики, плановики, бригадиры сбивались с ног, чтобы успеть «ответить» и «обеспечить». Администрация колхозов не успевала отвечать на запросы и на телефонные звонки районных органов. Председатели колхозов не успевали выехать в поле и наладить организацию труда, и как испуганные овцы метались в поисках выхода. За несвоевременный вывоз и сдачу зерна государству руководители колхозов отвечали в уголовном порядке, и «дамоклов меч» постоянно висел над их головой. Колхозники привыкли только к требованиям, поэтому реальная помощь со стороны завода грузовым транспортом показалась им какой-то неслыханной удачей.
Только здесь, в колхозах, я понял смысл выражения крестьян — «работать от зари до зари». Люди работали круглыми сутками, подгоняемые кнутом партийных и других организаций района. Ночами, при свете костров и фонарей, молотили, ссыпали и грузили хлеб.
— Скорее сдать государству, скорее выполнить план госпоставок, — висел в воздухе грозный окрик.
Люди надрывались и сдавали хлеб, масло, песок, кожи, шерсть. Ничего для себя — все для государства.
А государство, как ненасытный Молох, поглощало все и требовало все новых и новых усилий, увеличивало план госпоставок.
* * *
Административно-управленческий аппарат каждого колхоза, с которым мне пришлось сталкиваться, состоял из 30–35 человек. Главная администрация — председатель колхоза, парторг и бухгалтер, получающие в порядке начислений по 90 трудодней в месяц, затем — плановики, счетоводы, массовик, сторожа, кучера личных выездов председателя колхоза и парторга и т. д., которым начислялось в среднем по 30 трудодней в месяц. Помимо этого, административные функции в значительной мере ложились на бригадиров звеньев, обязанных учитывать выход на работу, выработку и т. п.
В общей сложности административная работа отвлекала не менее 20–25 % всего трудоспособного населения колхозов. Если учесть, что общее количество колхозов в этот период достигало примерно 250 000, административно-хозяйственный аппарат колхозов СССР составлял внушительную цифру в несколько миллионов человек, занятых непроизводительным трудом.
О расчетах с государством, о выгодности или невыгодности реализации продукции колхозов никто не имел права размышлять. Расчеты — централизованны, и колхозники не ощущали реального поступления средств, перераспределяемых с текущих счетов колхоза на различные целевые мероприятия. Выполнить норму, выполнить план — это висело и давило угрозой репрессий «за саботаж», за вредительство, за лодырничество.
Цифры бюджета и доходов государства по налогу с оборота еще никогда раньше не были для меня столь красноречивыми, как здесь, на месте, в колхозе. Продукция сдавалась государству по ценам, в среднем не превышающим 5 % рыночных. Фактически это были не государственные заготовки по плановым ценам, а форма своеобразной ренты за право крестьянства пользоваться землей, приусадебным участком и государственным инвентарем.
Обобществление скота на колхозных фермах и сосредоточение всего производственного инвентаря в руках машинно-тракторных станций, создали полную материальную зависимость крестьянства от государства. Принудительные поставки зерна, мяса, молока, яиц и других сельскохозяйственных продуктов, отправка молодежи на заводы, принудительная отработка натурповинностей транспортом и живой рабочей силой на дорожном строительстве, на лесозаготовках и т. д. — дополняли тяжкие условия беспросветной государственной барщины колхозного крестьянства.
В подавляющей массе колхозники представляли собой довольно плачевное зрелище: измученные, подавленные, нищенски одетые люди. И это на Украине в богатейшем хлебородном крае, а каково же положение крестьянства средней полосы Европейской России и Сибири, поставленное в еще более тяжелые условия?
Я смотрел на них и передо мной вставали известные мне по Наркомфину и Госплану цифры производства сотен тысяч орудий, десятков тысяч самолетов и танков, сотен миллионов снарядов. Цифры стоимости содержания миллионной полиции, многомиллионной армии чиновников и войск «счастливого коммунистического отечества».
* * *
Иногда, в воскресные дни, я ездил в колхоз порыбачить со знакомым 75-летним дедом, которого мне рекомендовал председатель колхоза, как опытного специалиста этого не затейливого, но требующего сноровки, дела. Петро, — так звали деда, был на редкость симпатичным стариком, не утратившим еще чувства юмора. Слушая его занятные рассказы из колхозной жизни, можно просидеть с удочкой на берегу реки, не скучая целые сутки. Дед неплохо знал русский язык, но пересыпал свою речь иной раз такими диковинными смачными украинскими словами, что трудно было удержаться от смеха. Особенно любит он критиковать «хозяев» машинно-тракторной станции и председателя колхоза — самонадеянного и резкого Бондаренко. Когда дед начинал ругать этих «хозяев», его витиеватые выражения лились плавно и складывались в своеобразный русско-украинский фольклор. Навести его на интересный разговор было нетрудно, и мне быстро удавалось настроить деда на нужный тон.
— Ну, дед, расскажи мне, что ваша станция «пробила» за эту неделю?
Обычно дед крякал, сплевывал на сторону коричневую от махорки слюну и, дымя люлькой, начинал.
Я удивлялся его необычайной наблюдательности, богатому запасу эпитетов, образности его сравнений. Казалось, что он вытряхивает какой-то большой мешок, из которого сыпятся меткие, точные определения, которыми старик награждал и отдельных работников станции и их работу.
Мало хорошего видел дед в работе этого «железного помещика», как он называл станцию. И это неудивительно. Постоянная нехватка тракторных запасных частей и горючего выводили из строя машины в самый критический момент пахоты или уборки. Тогда руководство колхоза и района начинало мобилизовывать «внутренние ресурсы», то есть заставляло крестьян выполнять ряд работ вручную. В этих случаях мобилизовывались все, кто в состоянии был двигаться. Это нарушало весь деловой распорядок хозяйства, раздражало и злило крестьян.
Дед Петро, рассказывая о неполадках, корил «хозяев» станции за высокие сборы, называя их «дармоедами», отнимающими треть урожая в уплату за работы по пахоте и уборке, а председателя колхоза «рвачом», получающим девяносто трудодней за «трепотню», тогда как колхознику за работу в поле начисляют только один трудодень за день работы.
Уплата натурой машинно-тракторной станции и принудительные государственные заготовки по бросовым ценам отнимали у крестьянства львиную долю продукции, что не могло не вызывать молчаливого недовольства и нападок на конкретных носителей этого дела — администрацию станции и председателя колхоза, хотя они и были только маленькими исполнителями приказов свыше.
За этими разговорами и ловлей окуней и плотвы не заметно подходил вечер. Дед разводил костер, пек в золе картошку и варил в чугунном котелке душистую уху. Краюха хлеба, уха и картошка составляли меню нашего, казавшегося необычайно вкусным, ужина.
Поздно вечером за мной заезжала машина, я прощался с дедом, одаривая его хорошим табачком, и возвращался к себе в Павлоград.
* * *
Лихорадочные мероприятия по усилению финансирования военных объектов с полной очевидностью говорили о неизбежно надвигающейся войне. Для меня это было очевидно уже в Наркомфине и, собственно, такое мнение разделялось и не скрывалось руководящим составом. В Наркомате боеприпасов «движение» государства к войне стало еще более ясным и определенным. Все же в широких кругах поддерживалась надежда, что воину удастся избежать.
В начале 1941 года, будучи в Москве по делу, я присутствовал на общем собрании сотрудников Наркомата боеприпасов. Собрание было посвящено докладу на тему о международном положении. Докладчик из ЦК партии обрисовал в общих чертах военную международную ситуацию. После окончания доклада один из сотрудников задал, очевидно, умышленно, наивный вопрос:
— Что выгоднее для СССР, чтобы была разбита Германия или Англия?
Докладчик улыбнулся и, не задумываясь, ответил:
— Для нас выгоднее, чтобы из Германии и Англии летело побольше пуха.
Собственно, все расчеты верховных стратегов партии сводились в этот момент к выигрышу времени для подготовки нанесения сокрушительного удара, когда созреют для этого условия.
По предложению Наркомата, на заводе ввели ежедневные донесения о выполнении плана. Строились дополнительные погреба для хранения взрывчатки. Администрации начислялись премиальныеза перевыполнение плана. Всюду чувствовалось нервное напряжение и ожидание каких-то грозных событий, но о возможности нападения Германии на СССР никто не помышлял, убаюканные заверениями вождей партии, что «дружба с фашистской Германией рассчитана на долгий срок и основывается на общности государственных и политических интересов».
Вот почему голос Молотова по радио 22 июня 1941 года прозвучал, как гром среди ясного неба. Прерывающийся, взволнованный голос Главы правительства сообщил о нападении Германии и вселил великую тревогу в сердца всех граждан. Началась война.
Над нашими головами вскоре загудели немецкие самолеты, пролетая в различных направлениях, не нанося удара ни заводу, ни элеватору. Противовоздушная зенитная артиллерия полигона изредка начинала бить по отдельным самолетам, пролетавшим на большой высоте, не причиняя им вреда. Своя авиация неприятеля в воздухе не встречала.
В одну из поездов в Днепропетровск я наблюдал ту же картину. Над городом кружилось несколько немецких бомбардировщиков, изредка хлопали зенитки. Советской авиации в воздухе не видно. Невольно вставал вопрос — где эти десятки тысяч самолетов, где обещание летать выше всех и дальше всех и бить врага на его территории?
Появились упорные слухи о замене командного состава Белорусского военного округа, об уничтожении немцами значительной части авиации на пограничных аэродромах. Железнодорожные эшелоны с беженцами и машинным оборудованием стали идти непрерывным потоком. Усилились панические разговоры о неизбежности эвакуации.
Колхозам предложили вывезти весь хлеб, элеватор забили до предела. Зерно свозилось колхозами и ссыпалось по приказу властей на обочину шоссейных дорог. Непрерывной вереницей подавались железнодорожные эшелоны со снарядами для зарядки капсюлями.
В один из солнечных дней страшной силы взрыв потряс Павлоград. В воздухе рвались тысячи снарядов. Оказалось, что случайно немецкая авиабомба угодила в один из железнодорожных составов с заряженными снарядами, стоявший на запасных путях станции. В воздух взлетели и два других железнодорожных эшелона, подготовленных к отправке. От тысячи бойцов, ожидающих погрузки вблизи станции, остались одни клочья. Каким-то чудом не произошла детонация и погреба завода, и тысячи тонн взрывчатки не взлетели на воздух, а вместе с ними не взлетел и весь Павлоград.
Администрация железнодорожной станции вскоре была отдана под суд за халатность и допущение задержки отправки эшелонов. Завод получил задание эвакуировать основную часть людей на другие заводы боеприпасов, расположенных в средней полосе, оставив необходимый минимум оборудования и людей для продолжения работы до последнего момента. Началась спешная подготовка к эвакуации.
Районные партийные организации формируют секретные отряды для действий в тылу после эвакуации. На заводском складе собирается вся одежда и инвентарь, пригодные для оснащения вновь возникших партийных групп, призванных все уничтожать, подрывать и сжигать. В жизнь проводится директива Сталина об оставлении врагу мертвой территории.
Бесконечные груды хлеба лежат на дорогах. Этот хлеб тоже будет сожжен…
* * *
Самолеты противника все чаще и чаще показываются в небе. Администрация и основной персонал забронирован и не подлежит призыву в армию. Руководящие эвакуацией работники вооружены.
В первую очередь грузится оборудование, женщины, подростки и инвентарь. У ребят — ФЗУушников радостное выражение лиц — перемена места их радует, а оставлять опостылевший завод не жаль.
Эшелон с теплушками подан. Грузятся женщины с детьми и подростки. Одновременно грузится разный инвентарь, постельное белье, одеяла, теплые фуфайки. Все материальные ценности грузятся по описям и строжайше учитываются. Погруженные вагоны пломбируются. Плохо одетые женщины не выдерживают этого зрелища и шумной толпой набрасываются на мешки с бельем и фуфайками. Парторг и охранники стреляют предостерегающе из револьверов в воздух, чтобы остановить «хищение государственного добра». Но вот появляется группа немецких самолетов. Женщины, увидев самолеты, отхлынули и бросились под железнодорожную насыпь, проклиная администрацию:
— Живодеры проклятые! Разбомбят нас здесь, пока вы грузите эти тряпки. Дети разуты, раздеты, куда везете! — кричат женщины, орут дети.
Самолеты пролетели. Порядок восстановлен, погрузка продолжилась.
Эшелоны ушли на Восток, а я с группой работников завода, по приказу Наркомата, обязан вывезти автотранспорт, кое-какое оборудование и архив.
Остались позади опустошенные поля и села Украины. Наш путь лежит на Пензу и дальше в республику немцев Поволжья, в город Нижний Ломов, где родственный завод боеприпасов готовится к нашему приезду.
Недалеко от города Энгельса, около немецкой колонии «Драй шпиц», нашу колонну на дороге останавливают три девушки с виду горожанки. В их глазах мольба:
— Пожалуйста, помогите нам, — просят они.
Сотрудницы прокуратуры РСФСР, девушки были эвакуированы с учреждением в г. Камышин и по комсомольской линии направлены в колонию «Драй шпиц» присмотреть за оставшимся после выселения немцев скотом. Трем девушкам, естественно, трудно справиться, накормить и напоить больше тысячи голов рогатого скота, несколько тысяч свиней и десятки тысяч кур. Бедные девушки, не знакомые с деревенской работой, растерялись и взмолили о помощи. Немцев-колонистов выселили, а «плановый» переезд колхозников из западных районов задерживался. Пришлось остановить наше продвижение к цели и заняться кормлением скота.
Не доенные, голодные коровы жалобно мычат, свиньи в исступлении давят поросят. Погибает скот — плоды многолетнего труда, а впереди неизбежный голод.
Двигаются по дорогам брички с немцами-колонистами, гражданами «бывшей» Республики немцев Поволжья. Вид у них угрюмый и озабоченный. Сопровождающие их НКВДисты весело шутят.
Куда их везут? Брошены аккуратные домики с покрашенными масляной краской стенами и солидной дубовой мебелью. Как говорят НКВДисты, их вывозят в наказание за сокрытие парашютных десантов немцев. Что это — просто удобный предлог для ликвидации Республики?
* * *
Закончена эвакуация, мы в Нижнем Ломове, размещаемся в отведенных бараках. По приказу Наркомата, из Москвы прибывает ревизор для проверки качества эвакуации, законности расходования средств и сохранности материальных ценностей.
Отчитаться нужно о каждой копейке и о каждой простыне, не говоря уже о более серьезном, а ревизор все пишет и пишет… И вспоминаются мне картины только что пройденного пути: обстрел Павлограда собственными снарядами, обезумевшие от страха лица людей, рассыпанное по дорогам зерно, застрявшие в грязи и брошенные машины, тысячные гурты скота, падающего в пути на восток…
Закончена ревизия, все проверено и подсчитано. Акт, подтверждающий законность всех операций и четкость эвакуации, отправлен в Наркомат.
Приходит зима. Веет поземка, гудит ветер, стужа проникает в плохо отапливаемые квартиры. Под Москвой разыгрываются решающие бои. На карту поставлено будущее страны и советской власти. В бой брошены все резервы и русский мороз, как решающий союзник, помогает выиграть битву за Москву.
* * *
Наркомат боеприпасов эвакуировался из Москвы в Челябинск, и, по его приказу, я еду в этот город рекордных морозов. Валенки, ватная телогрейка, полушубок и меховая шапка-ушанка не спасают от мороза. Отмороженные пальцы рук и ног стынут и мучительно болят. Чуть зазевался и шестидесятиградусный мороз (по Цельсию) изобразит на щеках предательские белые пятна. Но это в далеком тылу. А каково на фронте, в окопах, в снегу! Наступил 1942 год, предвещая населению голод и лишения.
Наркомат занимает большой, шестиэтажный, только что достроенный для каких-то областных надобностей, дом. Вокруг еще валяются неубранные леса, бочки, ящики, строительный материал. В здании сыро и неуютно. Люди бродят по этажам в поисках нужного человека. Аппарат еще не освоился с новыми условиями и потерял свою нормальную трудоспособность.
В кабинете наркома боеприпасов я встречаю маленького черного человечка — бывшего директора Ленинградского завода имени Кирова, героя социалистического труда Р. Трещит звонок. По прямому проводу Маленков из Москвы настаивает на сверхударном развертывании работ по расширению цехов Тракторного челябинского завода для обеспечения выпуска новых мощных танков. «Герой» поеживается от окриков Маленкова.
Продуктов в городе не хватает. Базар пуст, а в ресторанах подают какую-то бурду, вместо супа, и кусок вареной рыбы. Спекулянты на базаре торгуют не то махоркой, не то просто молотой соломой по 10 рублей стаканчик. Никотина в этой «продукции» нет, а затяжка создает только слабую иллюзию курения. Хлеб вырывают из рук по 20–25 рублей за килограмм. Хлебный паек мал, постоянно и мучительно хочется есть.
* * *
В тылу становится все тяжелее. Люди умирают от голода. Борьба за существование принимает часто омерзительные формы. Доходят отрывочные сведения о блокаде немцами Ленинграда и о гибели миллионов. Такое прозябание и ожидание конца в тылу — невыносимо. Мои попытки вырваться на фронт не удаются. Одержана Сталинградская победа. Госпитали забиты ранеными. Начинает поступать спасительная американская продовольственная помощь — ленд-лиз.
* * *
Военкомат командирует меня на курсы переподготовки офицерского состава Среднеазиатского Военного Округа (в г. Намангане Узбекской ССР). После окончания курсов я получаю специальное назначение и выезжаю на работу в Иран.
Итак, почти через полтора десятка лет судьба дала мне возможность перед выездом из Советского Союза еще раз повидать город, в котором я начал свою служебную карьеру.
Средняя Азия 1943 года поражала убожеством не только по сравнению с годами НЭПа, но даже по сравнению с началом 1930-х годов.
Ташкент и Наманган забиты беженцами из Центральной России. В одной комнате зачастую жило по две семьи — одна местная и одна беженская. Больше одной комнаты на семью вообще не имел никто в городе, кроме высшего начальства. В магазинах можно было видеть только пустые полки. Продовольственный паек ограничивался фунтом хлеба на человека. Люди голодали и умирали от голода. Старый знакомый врач рассказывал, что медицинский персонал буквально валится с ног от переутомления, так много в больницах умирающих от голода. Гибли, главным образом, беженцы, прибывающие «неорганизованно», т. е. те, которые приехали сами, а не эвакуированы с учреждениями или заводами. При приближении немцев, во многих районах, специальные отряды НКВД успевали эвакуировать население и сжечь деревни. В этих случаях эвакуированные, не находя нигде помощи и поддержки, пробирались на свой страх и риск далее в тыл. Естественно, что они стремятся на юг, где сама природа спасала их хотя бы от морозов, да и места эти были относительно сытые. На среднем Урале почти не было таких беженцев, Узбекистан же привлекал их обилием фруктов и климатом.
Но прибыв на место, эти несчастные не получали ни работы, ни продовольственных карточек, ни крова. Они вповалку спали на площадях и в парках, грязные, обовшивевшие, голодные. Тех, кто уже не мог встать на ноги, забирали и отправляли в больницы.
Я попросил своего знакомого врача свести меня в больницу, в которой он работал. Впечатление было ужасное: все палаты и коридоры заставлены койками, носилками или просто устланы соломенными тюфяками, смрадный тяжелый воздух от гниющих тел, опухшие лица, тонкие синеватые ручки детей и глаза, загнанных жизнью, обреченных людей. В них не было ни возмущения, ни даже горя, только щемящая безнадежная тоска и апатия. Меня поразило, что взрослые почти все отечные, опухшие, в то время как дети казались худыми, как скелеты.
— Удастся ли спасти кого-нибудь из этих несчастных? — спросил я доктора, когда мы вошли в его кабинет. В ответ он только пожал плечами.
Если бы мы могли их кормить крепким бульоном! Таких ведь в СССР теперь миллионы!
— А раненых в Ташкенте много? — спросил я доктора.
— Все городские школы заняты под госпитали, их и строили с таким расчетом, чтобы можно было сразу приспособить для нужд лазаретов.
Я вспомнил, как в 1939 году на Дальнем Востоке сам строил такие школы. Действительно, кухни, вся сантехника и планировка зданий и рассчитаны таким образом, что надо было только вынести парты, внести койки и госпиталь — готов, но сколько же раненых, если и это гигантское количество помещений переполнено. Ведь во время войны (1914–1917 гг.), за 2,5 года потери России ранеными составили 600–700 тыс. человек, сейчас эта цифра превышена, по крайней мере, в десять раз! Продовольственные затруднения в Первую мировую войну стали чувствоваться только в 1917 году, и они показались бы смешными современным гражданам Советского Союза, а ведь тогда техническое превосходство центральных держав над Россией было неизмеримо значительней, чем теперь.
Планово эвакуированные находились в привилегированном положении по сравнению с просто беженцами, но, в свою очередь, жили много хуже местных жителей, которые были связаны с деревней и могли покупать кое-что помимо рынка, используя старые знакомства.
Приезжие шли на рынок, цены же на рынке баснословно высоки: лепешка весом в 150 г стоила 15 рублей, курица — 300 рублей, в то время как заработная плата оставалась на прежнем уровне, и средний служащий получал в месяц 450–500 рублей.
Одна моя старая знакомая по Ташкенту, получавшая 450 рублей в месяц, попросила меня сходить с ней на рынок, чтобы купить резиновые ботики. Вернулись мы с ней ни с чем — у знакомой было отложено 300 рублей, а хорошие ботики стоили 2500 рублей. В то же время я видел своими глазами, как некоторые хорошо одетые дамы покупали на базаре сразу по 4–5 кур, платя за них 1200–1500 рублей. Невольно возникал вопрос — откуда у людей могут быть такие деньги?
В Ташкенте на вокзале я видел характерную сцену. Хорошо одетый человек вышел из вагона с четырьмя чемоданами и остановился, поджидая носильщика, к нему подошел человек в форме НКВД и попросил открыть чемоданы. Человек запротестовал и я слышал, как он, показывая документы, уверял, что он директор какого-то Бессарабского банка. На НКВДиста это не произвело должного впечатления, и чемоданы были открыты. Толпа, собравшаяся вокруг спорящих, увидела, что два из четырех чемоданов полны деньгами.
Поднялся ропот и НКВДист, быстро захлопнув чемоданы, велел собравшимся разойтись, вызвал милиционера и увел куда-то злополучного директора.
Было это в 1943 году, сколько времени уже ездил директор по СССР и сколько денег успел потратить?
Я слышал от местных жителей, что он не единственный «директор», привозивший с собой деньги в чемоданах. При быстрой эвакуации ответственные работники успевали-таки кое-чем запастись за счет советских рабочих и служащих. Покупка кур на базаре с уплатой по несколько тысяч рублей свидетельствовала о том, что не у всех бывших директоров банков деньги были отобраны на вокзале.
В 1943 году на улицах городов встречалось много вышедших из госпиталей инвалидов войны, пенсия в 150 рублей не могла их обеспечить и они занимались торговлей на рынке и нищенствовали.
Власть относилась к ним, по советским понятиям, очень либерально и во время войны боялась трогать военных.
Один красочный эпизод, виденный мною в кабинете председателя Городского совета города Намангана, хорошо характеризует взаимоотношения власти и инвалидов.
Председателя Городского совета узбека с русской фамилией — Назарова — я знал еще по прежней работе. Зашел я проститься с ним перед отъездом. Не успели мы закурить и начать разговаривать, как в соседней комнате поднялся какой-то шум, затем дверь кабинета широко растворилась, и на пороге появился слепой в военной форме без знаков различия. Слепой, опираясь на палку и ощупывая стену свободной рукой, решительно устремился вперед. Секретарша, худенькая, слабая женщина напрасно тянула его сзади за шинель, — стуча палкой слепой подошел к столу.
— Что вам угодно? — спросил председатель.
— От голода умираю! — истошным голосом заорал слепой. — Вы что думаете, можно прожить на ваши 150 рублей?
— У меня нет никаких фондов для помощи инвалидам, — сказал Назаров, я могу только проверить аккуратность выплаты вам пенсии.
— Фондов нет, а умирать за вас мерзавцев на фронте есть фонды… крысы тыловые! — Слепой ощупью схватил чернильницу и пустил ее в направлении Назарова. Председатель Горсовета вскочил и, боясь выдать себя каким-нибудь звуком, молча прижался к стене.
Два милиционера, вызванные секретаршей, увели слепца только после того, как он успел снести палкой с письменного стола все лежавшие на нем бумаги и предметы.
Немудрено, что население, видя подобные сцены, старалось всеми силами уклониться от мобилизации и избежать отправки на фронт. По кишлакам скрывались дезертиры, а на вокзалах разыгрывались трагические сцены.
Уезжая из Ташкента, я стал свидетелем такой картины: к вокзалу подошла толпа мобилизованных, все были навьючены громадными узлами с ватными одеялами и одеждой. Тоже, по-своему, характерная подробность. Узбеки знали, что в центральной России холодно и не верили в то, что власти выдадут им хорошее обмундирование. За мобилизованными шла большая толпа женщин. Они плакали и гортанно кричали. Вся эта масса людей затопила вокзал и двинулась на перрон, где уже стоял готовый эшелон. Во время погрузки милиция и солдаты войск НКВД с трудом отрывали мужчин от провожающих и вталкивали их в вагоны. Когда погрузка кончилась, женщины легли на рельсы, чтобы задержать поезд. С ругательствами, при помощи штыков и прикладов, их удалили и выгнали с вокзала. Только после этого эшелон смог двинуться.
Мой путь в Иран лежал через Ашхабад, где я получил от военных властей пропуск для пересечения границы. Заграничный паспорт мне прислали позднее прямо в Тегеран.
Ашхабад — последний советский город, который я видел перед тем, как покинуть СССР, столь же мрачен, как и Ташкент. Ни в одной гостинице не было места, все заполнено эвакуированными и я, не найдя пристанища, уже готовился ночевать на улице, когда сторож последней гостиницы, в которой я пытался остановиться, сжалился надо мной и повел меня ночевать к себе в сторожку, во дворе гостиницы. Целая семья ютилась в крохотной комнате. И я не без труда устроился на полу.
Так последнюю ночь на родине я провел под крышей только благодаря отзывчивости простого русского человека.

Глава V
В стране чадры
В Персию я въехал на автомобиле, без копейки иностранных денег в кармане. Советский военный комендант станции «Бендершах» дал мне литер до Тегерана, и я очутился один среди персов в вагоне второго класса.
Первое, что я заметил здесь — это обилие еды. На станции «Шахи» апельсины продавали в больших плетеных мешках, видимо, по очень низкой цене, потому что их покупали и бедные персы. Толстый перс рядом со мной закурил ароматную сигару. Я свернул козью ножку и затянулся махоркой. Перс с удивлением скосил на меня черные, миндалевидные глаза. В том же купе сидел еще пожилой перс с рыжей крашеной бородой и молодая персиянка в европейском платье с лицом до половины закрытым шелковой чадрой.
…Хочется есть, но я подавляю чувство голода — мне неловко доставать кусок черного хлеба с маргарином, а ничего другого у меня нет с собой. Пожилой перс смотрит на меня сочувственно-дружелюбно и протягивает апельсины. Я беру и благодарю по-тюркски: «Рахмат» (спасибо); он улыбается и говорит несколько слов на том же языке — лед между нами сломан, хотя и я, и персы-соседи говорим по-тюркски очень плохо.
На следующей станции оба перса выходят на платформу — моя соседка-персиянка кокетливо кутается в шелковую чадру. Видны черные брови, блестящие глаза и очень красивые волнистые волосы. Руки у нее тонкие, гибкие и холеные. На мгновенье чадра падает, и я вижу миловидное румяное лицо. Она определенно кокетничает, а я сижу напротив и поднимаю ноги под сидение, чтобы спрятать старые стоптанные сапоги.
* * *
Тегеран хороший, красивый город, но поражают меня не каракулевые шапки мужчин, не хорошо одетая толпа, а витрины магазинов. Я знал, что Персия не воюющая страна, знал, что за советской границей кончается царство голода и нищеты, но я не ожидал, что разница так велика. Магазины ломятся от товаров. Обувь, костюмы, материи, гирлянды колбас — невероятно, как в сказке.
Автомобиль везет меня вдоль высокой белой стены — советское посольство занимает здание старого русского посольства, — стена парка тянется на сотни метров вдоль улицы. У ворот посольства крохотная будка — это чисто советское. Я передаю через окошко свои документы и коротко говорю, кто я и зачем приехал. Молодой человек в штатском вертит мои документы в руках и потому как он это делает, видно какое учреждение воспитало этого охранника. Он берет трубку внутреннего телефона и звонит в посольство. Другой рослый молодой мужчина в штатском открывает калитку, и я прохожу внутрь. За трехметровым забором посольства огромный парк, я долго иду по дорожкам к зданию, расположенному внутри парка. Перед белым барскими домом с колоннами — озеро. Напротив террасы на каменном коническом постаменте бюст Грибоедова. Я вспоминаю «Вазир Мухтара» Тынянова, трагическую гибель русского посла и дипломата, растерзанного персидской толпой. Что ждет меня в этой восточной стране?
Я вхожу в хорошо обставленный зал — приемную. Ковры, диваны, хрустальные люстры. Широко раскрытая дверь в комнату, где сидит элегантная секретарша. Величественно и сухо она направляет меня в спецчасть. Спец-часть помещается в задней части дома, коридор и три одинаковых двери маскируют вход в спецчасть, находившуюся за одной из этих дверей. Перед тем, как дверь в спецчасть открывается, поднимается глазок, холодный пристальный взгляд одного из сотрудников «святая святых» советского посольства подробно исследует мою внешность. После осмотра меня пропускают в большую комнату. В ней шесть пустых столов и стульев. Впоследствии я хорошо узнал эту комнату.
Ряд секретных материалов вообще не выпускаются из помещения спецчасти, сотрудники посольства работают над ними в этой приемной.
Ко мне выходит начальник спецчасти, ничем не примечательный человек с лицом-маской. Разговор сухой, скучный и деловой. Он приносит из другой комнаты и передает мне торжественно большой лист — нормы поведения с приложенным списком кино и ресторанов, в которых запрещено бывать советским гражданами, находящимся в Персии. Список так велик, что, по-видимому, легче просто назвать те немногие общественные места, где позволено бывать.
— Общаться с иностранцами можете, — смотрит на меня бесцветными глазами начальник спецчасти, — только на почве служебных, деловых отношений. Понимаете? Ничего личного, интимного, особенно с женщинами.
Он делает паузу.
— Помните, сегодня мы союзники, а завтра… одним словом, за нарушение правил поведения советских граждан за границей мы в 24 часа отправляем на родину.
После начальника спецчасти я разговариваю с советником посольства, большим грузным азербайджанцем.
— Вы будете работать по ленд-лизу, — говорит он гортанно, помните, родина ждет грузов, от них многое зависит в исходе боев. Главное, следите за тем, чтобы заводское оборудование приходило комплектно… усиление нашей индустрии необходимо не только для войны против Гитлера, — добавляет он и смотрит на меня многозначительно.
Мне становится тошно от этих непрерывных нравоучений. Уже готовятся к новой войне, думаю я, и отвечаю советнику сухо, что я добивался командирования на фронт, но меня, вместо фронта, направили в Персию. Советник чуть озадачен таким ответом, но продолжает тем же поучающим тоном, что в Персии может быть даже более важный фронт, чем где бы то ни было. Затем он переходит на тему о наших «союзничках».
— Вы понимаете, что мы сейчас зависим от их снабжения, — говорит он выразительно, глядя на меня, поэтому надо быть любезным и внимательным.
Слово «союзнички» произносится с особым ударением.
— Кстати, смотрит он с беспокойством на мою поношенную одежду и изможденный вид, — ваш непосредственный начальник товарищ Зорин даст вам возможность хорошо одеться и вообще снабдит вас всем необходимым.
* * *
Свидание с полковником (впоследствии — генералом) Зориным состоялось на другой день. Зорин оказался среднего роста блондином, очень подвижным и энергичным. Принял меня дружески и менее официально, чем в посольстве. После коротких расспросов поручил мне изучить порядок движения и учета грузов через Иран и внести ему свои предложения по упорядочению слабых сторон этого дела.
— Самое главное — это быстрота доставки и комплектность получаемого нашими заводами оборудования, — повторил Зорин мысль, высказанную уже советником посольства, а пока до свидания, я дал распоряжение о выдаче вам 600 туманов, чтобы вы могли прилично одеться. Зорин ободряюще улыбается и дружески протягивает мне руку.
* * *
В магазинах мне показалось, в условиях войны, невероятным подобное изобилие товаров. Вместо опухших лиц голодающих, стоявших еще так живо перед моими глазами, здесь — толстые, улыбающиеся лица иранских торговцев, давно невиданные горы товаров. Шестьсот туманов — целое богатство. Это 20 пар хорошей обуви, то есть 40 000 рублей, если перевести на реальную рыночную ценность советских денег этого периода.
Торговцы любезны. Ни толкотни, ни очередей. По-видимому, иранцы привыкли к иностранцам и говорят на многих иностранных языках.
Экипировка закончена, и я приобретаю нужное внешнее оформление. В ресторане торговой миссии и посольства получаю отличное питание, хороший обед стоит всего 2 тумана, при моей зарплате в 650 туманов в месяц. Комната моя в отеле «Нью-Йорк» на площади Фердоуси. В свободное время осматриваю город.
Тегеран полон иностранцами — русскими, американцами, англичанами. С первого взгляда бросается в глаза разница в поведении представителей этих трех наций. Любопытно, что внешний вид посольства полностью отражает манеру держаться граждан трех государств. Советское посольство скрывается за высокой оградой и охраняется день и ночь агентами НКВД в штатском. Советские граждане на улицах Тегерана чувствуют себя неуверенно, хорошо зная, что за ними могут следить агенты посольства, зачастую иранские подданные, специально для этого завербованные. Боясь принудительного возвращения на родину, русские держатся замкнуто и обособленно, что противоречит их натуре и часто нарушается, несмотря на все запреты.
Английское посольство окружает еще более высокая стена, чем советское, но охраняют его не закамуфлированные НКВДисты, а индусы, величественные и стройные в белых чалмах на головах. Едва ли за поведением англичан наблюдают переодетые агенты, да это и не нужно. Каждый англичанин походит на лорда, не желающего смешиваться с презираемой толпой. За все время жизни в Иране я не видел пьяного или небрежно одетого англичанина. Неизменно подтянутые, чопорные и всеми нелюбимые, они гордо расхаживали по городам страны с высоко поднятой головой.
Американское посольство помещалось в большом здании в центре города, и не было огорожено. Войти в него можно без всякого труда. Вечером специальные автобусы на углу улиц Фердоуси и Стамбули забирали американских солдат из столицы в военный городок, находившийся под Тегераном. Случалось, что подвыпивших в барах солдат увозила на джипах военная американская полиция. Простота и непринужденность поведения американцев не только не вредила престижу Америки на Востоке, но содействовала взаимному пониманию, а высокая материальная обеспеченность вызывала зависть, особенно среди советских солдат и офицеров.
Но, к сожалению, помимо этого чисто внешнего различия в поведении представителей трех народов, было и нечто другое. Пока американцы веселились и развлекались, а англичане хранили гордое равнодушие, коммунисты вели самую интенсивную подрывную работу. Когда бы я не проходил мимо английского посольства, оно казалось тихим и безлюдным: кроме красавцев-индусов, похожих на изваяния, и служащих посольства, изредка проезжающих в машинах, никто не встречался. Советское посольство день и ночь жило напряженной деятельной жизнью. Охрана в проходной в воротах посольства разрешала проходить по парку в одиночку только советским гражданам. Всех местных жителей провожал один из четырех дежурных у проходной. К воротам один за другим подходили личности в пальто с поднятыми воротниками, в нахлобученных на глаза шляпах. Войдя в парк, личности эти явно переставали бояться и начинали держаться непринужденнее.
Неподалеку от ворот посольства расположены два советских учреждения — клуб и генеральное консульство. Наблюдатель из окон клуба или консульства всегда мог проследить, что делается на улице вблизи ворот посольства и, если это вызывалось необходимостью, предупредить посольскую охрану.
Молодые люди в штатском, дежурившие в проходной будке, хорошо вооружены. В дежурной комнате хранятся револьверы и автоматы. Некоторых из постоянных посетителей посольства я встречал настолько часто, что хорошо запомнил их лица. С одним из них, неким Бабаевым, мне пришлось позднее встретиться в Тавризе, он стал главою СМЕРШа в армии правительства Пешевари. Бабаев привлек мое внимание своими необыкновенно пушистыми черными усами. Создавалось впечатление, что усы наклеены, чтобы изменить внешность этого смуглого коренастого человека. Когда авантюра с правительством Пешевари лопнула и участникам этого грязного дела пришлось скрываться, Бабаев сбрил свои пышные усы и под чужим именем отлеживался в советской больнице в Тавризе. Позднее его благополучно перевезли через границу в Иранской Джульфе консулом А. Красных в багажнике экстерриториального посольского автомобиля.
Многие иранцы, посетители советского посольства, хорошо говорили по-русски, являясь агентами, специально подготовленными в Москве в «Институте народов Востока». Пути засылки и проникновения этой агентуры были весьма разнообразны.
Вскоре после приезда в Иран, среди других посетителей посольства мне бросились в глаза две характерные фигуры в черных халатах и белых чалмах на голове — обычная одежда мулл. Оказалось, что это два мусульманина — муллы, приехавшие из СССР. Однажды, обедая в столовой посольства за столиком прямо напротив этих гостей-мулл, я обратил внимание на то, что один из них говорил с официантом на чистейшем русском языке. Когда подали плов по-персидски, т. е. отдельно сваренный рис и отдельно приготовленное мясо, я заметил недовольство обоих мусульманских священников. На следующий день им уже подали настоящий жирный красноватый плов. Зная о методах тренировки агентуры и требования маскировки, я удивился, что они их нарушают. Позднее я узнал, что один из мулл действительно священник, по национальности — узбек, другой просто агент. «Муллы» имели задание наладить связи с духовными кругами Востока и вскоре уехали в Мекку, чтобы после паломничества в священный город, завоевать нужное доверие среди мусульманских священнослужителей.
Впоследствии я слышал от работника советского консульства в Тавризе азербайджанца М., что посылка агентуры под видом мулл широко практикуется НКВД и на Востоке работает не одна группа таких «духовных лиц».
* * *
Значительная часть местной агентуры вербовалась подобными учреждениями, связанными с посольством. На первом месте из этих учреждений, конечно, стояло торгпредство. Через торгпредство заключалось много всевозможных сделок, что позволяло финансировать в завуалированной форме любые организации и любых лиц, но существовали и другие «подсобные» организации.
Одна из таких организаций БОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Директор ВОКСа, шустрый, ловкий армянин пригласил меня на большой прием, устроенный ВОКСом для иранской общественности. Как и все советские служащие, не имевшие специальных заданий от посольства по обработке иранских общественных деятелей, я получил предупреждение не разговаривать и не знакомиться на вечере с иранцами. Прием устроили в саду, арендованном ВОКСом, образцово освещенном и украшенном. В центре сада устроена трибуна в форме раковины, а кругом нее амфитеатр для публики. На трибуне сменялись ораторы. Выступали представители иранской коммунистической партии ТУДЕ
[7], крупные журналисты и профессора-иранцы.
В саду был тир и киоск с пропагандистской литературой. От работников ВОКСа я знал, что выступления профессоров оплачиваются не прямо, а косвенно — дорогими подарками, или гонорарами за статьи, помещаемые в просоветской или нейтральной прессе, ее представители приглашались на приемы и соответственно обрабатывались.
Особое внимание обращалось на привлечение к работе ВОКС жен видных иранских деятелей, которым оказывалось подчеркнутое внимание.
Я был поражен, какое значительное количество иранцев бывало на приемах БОКС. Помимо журналистов и профессоров присутствовали видные политические деятели.
В своей пропаганде в Иране советские и иранские коммунистические организации весьма часто упоминали договор 1921 года, заключенный по инициативе Ленина и предусматривающий отказ СССР от старых долговых обязательств Персии — России в сумме 67 млн золотых рублей и от некоторых привилегий. О кабальном значении отдельных пунктов этого договора, конечно, не упоминалось.
Ораторами много говорилось о взаимной советско-иранской выгоде от разработки богатств северного Ирана силами обоих дружественных держав, о мощи и процветании северного соседа, о экономическом упадке Ирана и т. п.
Гуляя по парку и глядя на веселую и беззаботную толпу иранцев, я думал: что если бы в московском Парке культуры и отдыха какое-нибудь иностранное посольство могло с таким же комфортом вести свою антисоветскую пропаганду, то долго ли в этом случае могла бы просуществовать коммунистическая власть?
Несмотря на всю беспечность иностранцев, приходилось признать, что их строй, основанный на демократических принципах свободы, очевидно, сам по себе является некоторым противоядием против тлетворной и лживой советской пропаганды. На сколько времени хватит этого противоядия — оставалось, конечно, большим вопросом.
Впоследствии директором ВОКСа в Иране назначили некого Сухангулова, с деятельностью которого мне пришлось в дальнейшем сталкиваться. Отличительная особенность внешности Сухангулова — его лицо, обезображенное оспой и отталкивающая манера держаться. Сухангулов, татарин по происхождению, хорошо знал тюркский и персидский. Это был законченный тип советского карьериста, беспринципного и строящего свое личное благополучие на политических интригах в пользу правителей коммунистического государства.
* * *
Аналогичную с ВОКСом работу проводила советская больница, имеющая отделения в нескольких городах. Главное отделение больницы размещалось в Тегеране, а филиалы в Тавризе и Реште.
Тегеранская больница занимала ряд зданий на углу улиц Надыри и Юсуф-Абад. Во главе больницы стоял армянин Бароян, такой же ловкий и хитрый политический делец, как и его соотечественник, директор ВОКСа.
Можно сомневаться в медицинских познаниях Ба-рояна, но зато он был мастер по устройству приемов и банкетов в прекрасном зале одного из зданий больницы, специально оборудованном для этой цели. На банкетах в советской больнице принимали, конечно, врачей, но также и иранскую интеллигенцию вообще. Помимо приемов больница пользовалась популярностью среди иранского общества, так как располагала персоналом знающих врачей. Больница этим делала Советскому Союзу не плохую политическую рекламу. Характерно, что плата за пользование больницей была такой высокой, что бедное население Тегерана могло пользоваться ею только в крайнем случае. Обычные пациенты больницы — представители высших слоев иранского общества, как раз тех, среди которых Советский Союз больше всего хотел насадить свою агентуру.
Политические закамуфлированные встречи посольских работников с местными деятелями, сокрытие в стенах больницы в качестве мнимых больных политических деятелей, преследуемых иранским правительством, как я убедился позднее на многих фактах, входило в функции советской больницы в Иране.
Общая политическая концепция коммунизма, что политика — это сгущенная экономика, — особенно ярко сказалась в деятельности этой, казалось бы, совершенно не «политической» и не «экономической» организации.
* * *
Персидский базар — центр персидской торговли, хранилище национальных ценностей Ирана, — не остался вне поля зрения советского посольства. У торгпредства и посольства на базаре были «свои люди», обеспечивающие проведение нужных «операций». Со многими из этих «своих людей» мне позднее пришлось сталкиваться в деловой обстановке торгпредства, а также на самом базаре, в конторах этих людей, заинтересованных в коммерческих сделках с СССР.
Однажды, по рекомендации замторгпреда, я зашел на базар по указанному мне адресу к ирансному купцу 3. Тегеранский базар находился недалеко от центра города и размещается в своеобразных строениях, отдаленно напоминающих Торговые ряды в Москве или Гостиный двор в старом Петербурге. Полукруглые каменные крыши тегеранского базара, с круглыми отверстиями для света, тянулись на километры, разбегаясь бесконечными улицами и переулками. Сплошь заполненные бесконечными рядами магазинов и лавок, теснившихся вдоль прохода, эти улицы кишели толпой и кипели напряженной жизнью восточного шумного базара. Зачастую ряды магазинов тянулись в два этажа и имели подвальные помещения и внутренние дворы. Все это завалено самыми разнообразными товарами.
В витринах сверкали бриллианты, изумруды, рубины, отдельно тянулись ковровые ряды, текстильные, посудные, готового платья и т. п. Товары шли в Иран со всех концов мира. В одном магазине я увидел сахарные головы, завернутые в синюю бумагу с двуглавыми орлами — гербом императорской России. Очевидно, запасы некоторых товаров хранились на иранском базаре в течение нескольких десятилетий.
Поразило меня, по сравнению с советской действительностью, что в час молитвы, или просто, если хозяин отлучался, вход в магазин обычно задергивали шнурком, протянутым поперек входа. Никаких запоров, никакой сигнализации, охраны — на иранском базаре я не увидел.
Рекомендованного мне купца-иранца я застал на пороге магазина. В глубине, за высокой конторкой, сидел юноша и что-то писал в огромной книге. Торговец прекрасно говорил по-русски и тут же помог мне самым добросовестным образом в моей небольшой коммерческой операции. Впоследствии я убедился, что некоторые персидские купцы весьма недружелюбно относились к иностранцам. Один раз я присутствовал при тягостной сцене, когда купец, старый иранец с выкрашенной в красновато-рыжий цвет бородой, не только отказался что-либо продать одному сотруднику советского посольства, но стал его поносить последними словами на своем языке и в бешенстве отплевываться. Мы предпочли тогда покинуть магазин. Отдельные персидские купцы, узнав в покупателе иностранца, не говорящего хорошо по-персидски и мало опытного, нередко повышали цены на товары.
Уходя от своего купца, я спросил его, почему сын его портит глаза и здоровье в полутемной лавке, а не учится, чтобы получить хорошее образование и стать не торговцем, а инженером или промышленником, и способствовать созданию самостоятельной иранской промышленности. Купец улыбнулся и очень сдержанно пояснил, что в Иране существует древний обычай: передавать торговое дело отца сыну. Даже этот «свой человек» советского посольства соблюдал восточные традиции. Национальные традиции народов Востока, народов ислама исключительно сильны. Я в этом не раз убеждался, работая в Узбекской республике ССР. В Иране, не ограниченные воздействием правительства, эти национальные традиции проявлялись во всем. Я невольно думал о том, что произошло бы в России, и, в частности, на Кавказе и в Средней Азии, если снять барьеры железного занавеса.
Советские люди, попадая в Иран и получая высокую зарплату в иранской валюте, спешили запастись всем необходимым. Богатство Ирана казалось таким сказочным, а дома так тяжело, что никто не хотел терять время. В России у многих остались семьи — голодные в прямом смысле этого слова. Один служащий, обремененный в Москве семьей, уже немолодой человек, возвращаясь на родину после окончания войны, повез с собой исключительно только одно продовольствие несколько мешков муки и несколько пудов жиров и сахара. На одежду у него уже не хватало денег. Как он потом писал с родины своему оставшемуся другу, в советской таможне в Баку его заставили высыпать муку, и бедняга собирал ее потом горстями назад в мешок после того, как таможенник убедился, что в муке не спрятано ничего недозволенного. За право ввоза на родину необходимого для прокормления семьи продовольствия ему пришлось уплатить свыше 1,5 тыс. туманов лицензионных сборов, так как норма ограничивалась двумя десятками килограмм разного продовольствия.
Другие набрасывались на одежду. Вывозить можно по пять пальто и пять костюмов на человека. Все бегали и выискивали вещи получше и подобротнее, чтобы хватило на более долгое время.
В столовой за столом все время слышались возгласы:
— А я вчера купил замечательное кожаное пальто.
— А я подготовил полный комплект.
Под полным комплектом разумелось полное количество вещей, разрешенных ввозить в СССР.
Так, на деле подтверждался известный советский анекдот: «Я верю, что социализм можно построить, но не верю, что при социализме можно будет жить».
* * *
С простотой, размахом и добродушием американцев я столкнулся непосредственно, когда мой джип из-за лихой езды шофера, недалеко от города, получил восьмерку на переднем правом колесе. Ехали мы в Шимран, дачное место в горах, куда переселялись на лето богатые иранцы. Поблизости не было ни одной мастерской, организованной советами, пришлось ехать в американскую. Свернув в сторону и проехав по боковой дороге, мы увидели площадку с большим количеством бетонных смотровых ям. Мастерская была рассчитана на одновременный прием сотен автомобилей. Когда мы въехали на смотровую площадку, к нам сразунаправилась целая группа людей. Одного военного вида автомобиля и красной звезды было достаточно, чтобы к нам отнеслись, как к своим. Американцы не требовали оформления каких-либо документов на ремонт, что меня не могло не удивить. На советской ремонтной станции нужно сначала подать заявку на ремонт, потом появится механик, который определил бы точно, что надо сделать и какое количество запасных частей выписать, потом бы нам выписали наряд на склад на запасные части, потом мы должны сами идти на склад их получать и только после этого автомобиль подняли бы на домкраты и механик, лежа на спине, полез бы под него. На американской станции, благодаря хорошей организации работ, все это упрощено до предела и через пять минут нам не только сменили колесо, но и осмотрели весь мотор, сменили масло и мы продолжали путь, благословляемые на дорогу американским дружеским: «О’кэй!».
— Хорошие ребята, — заметил расчувствовавшийся шофер, и нашего брата понимают. Со мной недавно такой случай был: еду я по Тегерану, через площадь, тороплюсь, а на беду пробка образовалась. Гляжу слева памятник какой-то стоит, столбиками с цепями огорожен, а цепи чуть не у самой земли болтаются… Дал я газу, рванул через цепи сразу в ту улицу, куда надо было. Только бы, думаю, патруль не заметил, чего доброго, за лихачество припаяют. Въехал в улицу, оглянулся, а сзади два военных джипа жмут. Я газу и они газу. Я в переулок и они за мной. Ну, думаю, попал. А тут вижу дорога загорожена. Нагнали они меня. Один остановился впереди, другой сзади. Вижу — американцы. Вышли из машины, вышел и я. Подходят, ребята все рослые, форма новая, на ногах белые гамаши. Смеются, по плечу ударяют и на ресторан показывают. Ну, думаю, где наша не пропадала, пойду с ними выпью, все равно пропал. Когда выпили, понял я, что это они из-за моего удальства гнались, понравилось им, что я через цепи перемахнул. Все «гуд» и «о’кэй» говорили и смеялись. Нет, ребята хорошие и нашему брату сочувствуют.
— А как англичане? — спросил я.
Мой шофер безнадежно махнул рукой.
— Англичане не то, у них зимой снега не выпросишь, это тебе не американцы.
В отеле «Нью-Йорк», как это ни странно, нас поселили вместе с американцами. Несмотря на все инструкции и на наше стремление им следовать, из этого ничего не получалось. Вечерами мы спускались в кафе, расположенное в первом этаже, и туда же спускались американцы. Им и в голову не приходило, что наша сдержанность объясняется чем-либо иным, кроме незнания английского языка. Они все время подсаживались к нам, угощали виски, смеялись, шутили и всячески выражали свое дружеское отношение. Нам казалась непонятной и странной их беззаботность.
Многие американцы приходили с иранскими девушками, танцевали и веселились от души. Постепенно мы стали привыкать к риску общения с иностранцами. Мы спускали шторы и после нескольких рюмок начинали себя чувствовать свободнее. Особенно любили американцы русские песни, они охотно подтягивали нам, когда мы пели и старались выучивать русские слова, записывая их латинскими буквами.
Изучение движения грузов показало мне всю грандиозность американской помощи. Пароходы разгружались в двух портах Персидского залива Бендер-Шахпуре и Хоремшахре. День и ночь не прекращалась разгрузка, горы продуктов, машин и оружия заваливали разгрузо-погрузочную территорию на юге Ирана, а также в портах Каспия Бендер-Шахе, Пехлеви и в перевалочных пунктах — Тавризе, Миане, Мешхеде и других. Ящики с консервами, яичным порошком и другими товарами, уложенные друг на друга, достигали высоты пятиэтажных домов. Грузовые автомобили «Студебекер» собирались американцами на юге, там же передавались советским шоферам, грузились и непрерывной лентой катились к советской границе. Часть грузов шла железной дорогой до Тегерана и здесь вагоны сортировались.
Из Тегерана в СССР две дороги: одна в Иранский порт Бендер-Шах на Каспии, другая на Миане в сторону советского кавказского Азербайджана. От Миане железная дорога до Тавриза не была достроена. Автомобильные колонны пересекали границу Туркменской ССР у Мешхеда. На юге американцы построили специальный завод — филиал завода «Студебекер» для сборки пятитонных автомобилей этой фирмы. Четыреста тысяч автомашин было переброшено через иранский «мост победы».
Погрузка происходила в портах Персидского залива под надзором американских сержантов-чекеров. Тут же советским представителям передавались накладные, 200 человек советских служащих занимались только составлением шифрованных телеграмм в Москву с перечнем прибывающих грузов.
При изучении всего хода перевозки я столкнулся с тем фактом, что ящики с заводским оборудованием часто попадают в потоки грузов, идущих по разным направлениям, и потом приходят на место не комплектно и с опозданием. Я написал по поручению Зорина подробную инструкцию, каким образом упорядочить транспортировку и учет. Меня больше всего удивляла беззаботность американцев. Немцы уже отступали, дело их кончено, а поступающее из США оборудование заводов коммунисты, несомненно, употребят на изготовление оружия против самих же американцев и их союзников.
* * *
Через некоторое время я принимал участие в Комиссии по приему советского золота, прибывшего в Иран. В приемочной комиссии вместе со мной участвовал представитель Русско-Иранского банка. Вызвали меня официально для приемки специального груза, и я сначала думал, что это оружие. На дворе отделения банка стояло пять грузовых автомобилей, окруженных вооруженными красноармейцами. Золото было упаковано в небольшие запломбированные мешки. По документам — 25 т, помимо золота, груз включал драгоценные уральские камни. Комиссия проверила вес, пломбы и документы. После этого груз был отправлен дальше по назначению — в Индию. Золото все прибывало и прибывало. Позднее я еще четыре раза принимал участие в приемке прибывающего из СССР золота и драгоценных камней. Всего мы приняли около 125 т такого груза.
Золото добывают невинно-заключенные в лагерях люди, и оплачивается это золото миллионами человеческих жизней. Золото льется обильной рекой на подготовку захвата Востока, на пропаганду, на подкуп — на удушение сегодня еще свободной части демократического мира!
* * *
Однажды, выйдя утром из отеля «Нью-Йорк» и направившись на работу, я заметил, что улицы оцеплены полицией. В советской офицерской форме меня пропускала иранская полиция и патрули беспрепятственно. У английского посольства на улице Фердоуси мне встретился целый кортеж автомобилей. Впереди ехало два джипа с охраной, сзади — вереница черных, блестевших на солнце, автомобилей. Я остановился и увидел в одном из автомобилей Рузвельта. Невольно моя рука поднялась к козырьку. Президент улыбнулся и дружески махнул мне рукой. Лицо президента было худое и изможденное, улыбнулся он очень приветливо, но это была улыбка переутомленного человека.
Мне стало грустно. Как больной, умирающий человек сможет разгадать и парировать хорошо продуманные козни кремлевских диктаторов? Неужели коммунизм, победив Германию, захватит и весь свободный мир? Что-то неблагополучно в этом свободном мире, он что-то не понимает или не хочет понять?
Вечером я был в специальном клубе-столовой советских служащих ленд-лиза. Я сидел за столиком с несколькими приятелями, когда в клуб шумно вошли четыре офицера. Офицеры в новенькой летной форме, грудь их увешена орденами — это были летчики, привезшие в Тегеран Сталина. Все притихли, с интересом смотря на возниц вождя. Офицеры были уже сильно навеселе, они заняли столик, начали петь пьяными голосами и потребовали еще вина и водки. Публика стала перешептываться. Герои заметили это и стали вести себя вызывающе, с их столика послышалась матерная ругань. В зале было много женщин. Я видел, как некоторые стали подниматься и уходить. В этот момент в дверях появился полковник Зорин, видимо, вызванный администрацией столовой.
— В чем дело, товарищи, что тут за шум? — направился Зорин к летчикам. Зал замер. В тишине раздался пьяный голос одного из летчиков, майора по чину, украшенного двумя золотыми звездами Героя Советского Союза.
— Ты что пришел, — начал он заикаясь, — ты что не знаешь, кто мы, кого мы привезли? Ты, — последовала нецензурная тирада, — я здесь гуляю, — снова ругань, — а ты мне мешать пришел?..
Зорин хотел перебить героя, но тот разразился новым потоком брани.
Я видел, как смертельная бледность покрыла лицо начальника ленд-лиза, — ведь дело происходило в присутствии десятков его подчиненных.
— Убирайся, пока цел, — закончил сталинский возница и икнул.
Зорин повернулся и вышел из зала. Остававшаяся публика стала потихоньку расходиться. Майор-победитель встал из-за столика и направился в нашу сторону. Курносый блондин, парень лет тридцати на вид, приблизившись, он обнял моего соседа за плечи и стал изъясняться в любви к «наземным войскам»: мой сосед был тоже в военной форме. Мы сказали майору, что не следовало бы так публично оскорблять главу большого советского учреждения за границей.
Майор обескураженно посмотрел на нас мутными глазами и ответил обиженным голосом.
— А я ведь Герой Советского Союза, меня могут арестовать только по постановлению ЦИК. Я скажу хозяину, так он этого Зорина завтра же отсюда уберет.
Это стало так невыносимо противно, что мы встали и вышли вслед за другой публикой. Герои-летчики остались кутить в одиночестве.
А хозяин лихого майора не без успеха сражался на конференции с Черчиллем и Рузвельтом.
* * *
В этот период мне представлялось, что, подобно библейской легенде, трагедия заключается в том, что «семь тощих коров» коммунизма готовятся пожрать «семь тучных коров» капитализма, — при благосклонном их согласии! Что это не насытит дьявольского аппетита, и тощие коровы коммунизма не потолстеют, для меня не было сомнения.
Голодные русские солдаты умирали, но прекрасно дрались на фронте, а голодное государство тем с большей энергией готовилось к захвату сытых государств. Война с Германией еще не закончилась, а коммунистические правители уже готовили плацдарм для борьбы со своими сегодняшними союзниками. Союзники же продолжали оказывать коммунистическому государству свою гигантскую, все нарастающую, помощь.
* * *
Открытие второго фронта во Франции, а не на Балканах, как предлагал Черчилль, отдавало фактически в руки Сталина всю Восточную Европу — громадный плацдарм для будущей борьбы за господство над всем миром.
Я не знал тогда, что Рузвельт будет искренне стремиться завоевать доверие Сталина и рассеять подозрительность кремлевского диктатора, вызванную необходимостью сидеть за одним столом с Черчиллем, повинным в поддержке белых правительств во время Гражданской войны в России. Что Америка и Запад чего-то недопонимают и что положение становится трагичным, я уже и тогда ясно чувствовал.
— Пусть союзники дают больше снабжения, — говорили многие уже во время конференции. — Берлин займем и без второго фронта, а победим Гитлера, тогда Европа наша.
Развеселила многих передача англичанами Сталину меча в память Сталинградской победы. Сталин поцеловал меч и передал его Ворошилову. Уезжая из Персии, Сталин посетил молодого шаха и отечески поцеловал его в голову — оба поцелуя были поцелуями Иуды. Через несколько лет организовано покушение на шаха, к счастью, неудав-шееся, а меч, подаренный англичанами, был поднят против свободного мира в Корее.
Вскоре после окончания Тегеранской конференции в здании советского посольства состоялось открытое партийное собрание с докладом об итогах конференции. Собралось около 150 человек сотрудников посольства, торгпредства и советского транспортного управления, много восточных лиц, несколько женщин. Работники советского транспортного управления в военной форме, остальные в штатском, все хорошо одеты. Работники посольства ходят с большей важностью и самомнением, чем работники торгпредства.
Всматриваюсь в лица. В подавляющем большинстве это прожженные беспринципные дельцы, способные на любое преступление. Мне тяжело думать, что они представляют за границей закованный в кандалы русский народ.
Для докладчика поставлен стол, над столом портреты Ленина и Сталина тяжелым хитрым взглядом смотрят на лица чиновников созданного ими коммунистического государства. Докладчик, человек лет 45, порывистый и нервный. Доклад можно было бы назвать: «Советские успехи на фронтах Отечественной войны и политическое положение». Акцент сделан даже не на Тегеран, а на перспективы. Тегеран явно только маленький этап: советские победы уже предрешили исход конференции.
— Мы настояли на конференции именно в Тегеране, а наши, с позволения сказать, союзнички приехали договариваться. Сталинград решил исход войны, но Сталинград подготовлен мудрой тактикой растягивания фронта и завлечения врага внутрь нашей страны. Мы зажали теперь немцев в тиски. Сталинград — это знамя нашей победы.
Мне стало не по себе, все оправдания катастрофы 1941 года звучали фальшиво и отвратительно. Я вспомнил сожженный хлеб на полях и в складах и беженцев, умиравших от голода в больницах Ташкента после победы под Сталинградом.
— Дело сводится к очень простой вещи, — переходит снова к вопросу о союзниках докладчик, — наши разногласия с ними очень не сложны, они хотят сохранить свой пух, а мы хотим, чтобы немцы им этот пух немного повыбили. Будет или нет второй фронт — немцы уже разбиты, именно поэтому союзники вынуждены перед нами расшаркиваться.
Затем докладчик коснулся вопроса о Китае и заявил.
— Мы должны поддерживать своих революционных братьев-китайцев, явно намекая на китайских коммунистов, — не забывайте, товарищи, что еще Ленин сказал: «Исход борьбы зависит, в конечном счете от того, что Россия, Индия и Китай составляют гигантское большинство населения». На Балканах мы ориентируемся на революционный боевой авангард, возглавляемый Тито и на порабощенных братьев-славян, которые бесспорно склоняются на сторону СССР.
Перейдя к Ирану, докладчик сухо упомянул, что — здесь поднимается народно-революционное движение и что Иран в настоящее время находится в тесном деловом контакте с Советским Союзом. Вскользь также упомянули о том, что Англия изживает себя на Востоке.
Доклад закончился под дружные аплодисменты зала. Советские карьеристы были подкреплены в своей уверенности, что ставка на победу коммунистической диктатуры в мире ими выиграна.

Глава VI
«Шахсей-Вахсей»[8]
Работа моя в Тегеране вылилась в форму нудной бюро-кратической канители. С раннего утра и до 12 часов ночи я тонул в море бумаг, не видя непосредственной оперативной работы. Радиограммы в Москву достигали метровой длины. Из Москвы получались непрерывные радиотелеграфные указания, запросы и напоминания, требующие «спешных», «экстренных», «немедленных» ответов. Несмотря на весь этот чудовищный бумажный поток, а возможно и благодаря этому, грузы засылались не по назначению, задерживались в пути, а оборудование приходило на место некомплектно.
Многие вечера, иногда свободные от работы, уходили на собрания, и тогда бумажная волокита заменялась словесной.
* * *
В 1944 году Красная армия успешно продвигалась вперед, и победа казалась не за горами.
Советскому посольству в Иране по директивам Москвы предлагалось уделять еще больше внимания внутренним делам Ирана и подготовке захвата Иранского Азербайджана. Деятельность агентуры заметно активизировалась.
Стоя в стороне от этого рода деятельности посольства, я, тем не менее, все время чувствовал ее усиление. Однажды в ресторане «Напери», в одном из тех, где разрешалось бывать сотрудникам посольства, за одним из столиков я увидел советника посольства в обществе неизвестного мне человека. Они вели деловой разговор за ужином. Я сидел за соседним столиком. Позднее X. пригласил меня присоединиться к ним и представил мне незнакомца.
— Наш иранский друг К., — и улыбнулся. Завязалась малозначащая общая беседа о политических настроениях в Иране. Вскоре советника вызвали к телефону, а я продолжал беседу с «иранским другом», говорившим по-русски со слегка заметным восточным акцентом. Мне стало очевидным, что «иранский друг» советника один из доверенных агентов посольства. Мне было интересно понять его психологию.
Маленький сухой желтый человек, подобострастно вежливый с советником, перенес свое вкрадчивое подобострастие и на меня. Из разговора выяснилось, что агент — персидский подданный, член партии ТУДЕ, работник персидских профсоюзов.
В Персии было мало пролетариата и работа советской агентуры в этой области сосредоточивалась главным образом на двух главных объектах: текстильном центре в городе Исфагане и в среде железнодорожных рабочих. Мой собеседник работал среди рабочих в Исфагане. Он поведал мне, что руководящие деятели профессиональных союзов в большинстве состоят членами партии ТУДЕ, но что среди рабочих преобладают националистические и религиозные настроения. Он глубокомысленно и с пафосом заявил, что работу в широком масштабе можно вести на национально-освободительной базе, сочетая ее с задачами ТУДЕ. Нового в этом для меня ничего не было.
Я уже знал раньше, что в посольских информациях, направляемых в Москву, этому вопросу уделялось особое внимание.
«Иранский друг» заметил, что профсоюзы не имеют достаточных средств для обширной воспитательной пропаганды и расширения профсоюзного движения.
— Только на профсоюзные взносы эту работу осуществить нельзя, — заявил он.
— Откуда же взять средства? — задал я намеренно наивный вопрос.
— Источники найдутся. Дело все в организации и в качестве нашей работы. Нас поддерживают «либеральные круги», — рассмеявшись, ответил иранский «активист», подогретый вином.
Я посмотрел на энергичное, умное лицо и подумал: что это, просто продавшийся человек или в нем есть элементы идейности? Ведь в начале революции коммунизм поддерживался фанатически настроенными сторонниками. Может быть, и этот «друг» принадлежит к этой категории?
— А как вы оцениваете прожиточный минимум крестьянства и рабочих Ирана, — спросил я, думая выяснить его осведомленность в этом вопросе.
— В Иране процветает открытый грабеж крестьянства, — ответил он насупившись. Безземельные и малоземельные крестьяне арендуют у помещиков землю на условиях уплаты натурой в среднем 30–40 % урожая, а средний рабочий зарабатывает ничтожно мало от 100 до 120 туманов в месяц.
Я мысленно сопоставил этот «грабеж» с «добровольными» поставками колхозниками сельскохозяйственных продуктов государству по ценам, равным 5-10 % рыночным, и вынужденное содержание громоздкого, ненужного колхозникам, административного аппарата колхозов.
Картина с положением рабочих в СССР столь же безотрадна. Покупательская способность товаров военного времени в переводе на товары широкого потребления в десять раз превосходила покупательскую стоимость советского довоенного рубля. Это значит, что иранский рабочий в среднем зарабатывает 1000–1200 советских довоенных рублей в месяц, т. е. в три раза больше среднего квалифицированного рабочего в довоенном СССР.
— Насколько хуже, по вашему мнению, положение персидского рабочего по сравнению с положением советского рабочего? — спросил я, закончив свои соображения.
Мне показалось, что мой собеседник взглянул на меня недоумевающее и я пожалел, что задал этот вопрос.
— Иранские рабочие не скоро добьются такого благополучия, как в СССР, — ответил он, задумавшись. — Отсутствие безработицы, наличие больниц, всеобщего бесплатного обучения и домов отдыха, — этого нам достигнуть нелегко. Иранский рабочий и крестьянин в понимании наших капиталистов — скот. Это унижение хуже, чем любая эксплуатация. И это будет продолжаться, пока существует власть шаха.
Последнее замечание «иранского друга» приближалось к истине, с той существенной поправкой, что в СССР в униженном положении находится все население, рабочие же по отношению к другим имеют только видимость социально-экономического преимущества. Мне хотелось продлить беседу дальше и все-таки понять, во имя чего, кроме советских денег, этот человек готовит своей стране страшную судьбу России. Иранец стал явно уклоняться от прямых ответов, да к тому же и советник вскоре вернулся. Дальнейший разговор перестал быть для меня интересным, и мы распрощались. Лишний раз я убедился, что нормальных человеческих отношений между советским работником и персидским подданным, даже членом прокоммунистической партии ТУДЕ, быть не может. Даже партийные работники, подготавливающие революцию и захват власти в Персии, лишены возможности по-человечески сблизиться и поговорить с местными товарищами по работе. Вся жизнь этих людей шла в рамках исполнения очередных инструкций в атмосфере недоверия и подозрительности, в условиях постоянного придирчивого контроля сверху. Это был какой-то мираж, вместо действительности, как будто все, к чему прикасалась рука коммунизма, теряло свое лицо и делалось только «подотчетным номером».
До некоторой степени характерной в этом отношении мне представлялась фигура директора Международной книги в Тегеране Григория Васильевича Ищенко. В прошлом работник НКВД, Ищенко свободное время посвятил охоте в горах на джейранов и беспробудному пьянству в обществе посольских работников аппарата военного атташе. Казалось бы, коммунист, директор учреждения, через которое шла значительная часть пропагадных материалов, должен соответствовать своему назначению и гореть идейным пламенем коммунистического пафоса. Очевидно, Ищенко имел основание уклоняться от проявления излишнего энтузиазма и предпочитал отводить душу в горах или за бутылкой. Очевидно, и он только простой мертвый винтик в хорошо рассчитанном и хорошо управляемом механизме.
Немудрено, что на участившихся политических собраниях докладчики все больше упоминали об инертности, о недостаточной «бдительности», а мероприятия посольства сводились к созданию платной агентуры и разжиганию религиозных и национальных настроений среди иранцев. Коммунизм, как идея, дискредитировал себя на практике в СССР и стал все больше терять почву в Иране. Зато коммунизм, как организующая сила для осуществления заговора, имея гигантскую материальную базу, создал аппарат и приобрел опыт в использовании слабых сторон своего противника. Последнее облегчалось тем, что противник неуклонно этому способствовал своей пассивностью, не принимая никаких контрпропагандных мер, толкая тем самым в коммунистическую пропасть.
На эти размышления меня навела беседа с представителем персидских рабочих.
* * *
Через несколько дней я обратился к Зорину с просьбой перевести на оперативную работу. Бюрократическая рутина советского центра и общее ощущение безысходности меня угнетали. Зорин несколько удивился, но после короткого размышления предложил мне ехать на самый трудный, в его понимании, участок работы в Миане.
Миане был тем пунктом, до которого доходила железная дорога с юга через Тегеран и дальше на Кавказ. От Миане до Тавриза шла шоссейная дорога, от Тавриза до Джульфы Советской начинался снова железнодорожный путь, обслуживаемый советским железнодорожным подвижным составом. Поэтому в Миане устроили большой перевалочный пункт грузов ленд-лиза. В этом пункте образовывался завал грузов. Через Миане производилась переброска боеприпасов, бронированных автомобилей «Скауткар», отправляемых дальше своим ходом, а также большое количество продовольствия и металлов.
Контора в Миане занимала помещения, построенные иранцами на территории железнодорожной станции для железнодорожных служащих. Некоторые дома были еще недостроены и только наскоро приспособлены под канцелярии и жилье. Кругом этих домов — громадная площадь в несколько квадратных километров окружена забором из колючей проволоки и там грудами лежали товары ленд-лиза, частично просто покрытые брезентом, частично под временными навесами.
Сам городок небольшой, но с традиционным большим базаром, напоминавшим в миниатюре тегеранский. Несколько мечетей, несколько убогих гостиниц и грязная центральная улица дополняли картину этого городка.
В одной из этих убогих гостиниц я и нашел приют в комнате с земляным полом, застланным циновками, на втором этаже, прямо над пивной, занимавшей весь нижний этаж.
Центральная улица города своими двухэтажными домами и не плохими магазинами до некоторой степени напоминала европейскую. Другие улочки веером раскинулись в стороны, застроенные типично восточными домами, спрятавшимися за глиняными заборами. На улицах Миане не попадались иранские женщины без чадры, как это часто можно было видеть в Тегеране, а сами чадры выглядели строже и непроницаемей, чем в иранской столице.
* * *
Аппарат конторы состоял из 15 человек советских работников и нескольких сот человек грузчиков, бригадиров и учетчиков-иранцев.
Руководителя конторы вскоре после моего приезда сменили, и мне пришлось работать заместителем некоего полковника Волкова, типичного представителя советской военной бюрократии не слишком большого калибра. Ниже среднего роста, плотный, с русыми волосами и невыразительным лицом — Волков отслужил 25 лет в Красной армии и дослужился до звания полковника. Вся его несложная психология определялась стремлением получить при уходе в отставку генеральский чин, получать пенсию, равную полному окладу, построить дачку и ловить рыбу на покое.
Ответственность за «проклятый» ленд-лизовский груз, напоминания и требования Москвы и Тегерана держали его в состоянии непрерывного испуга и часто повергали в мрачное отчаяние. В любой момент, в его представлении, могло произойти что-то такое, что заставить распрощаться с мечтой о генеральском мундире, дачке, рыбной ловле и даже со свободой.
Служащие конторы Миане работали обычно с 7 часов утра до 12 часов ночи, не исключая и воскресных дней, и все-таки не справлялись с потоком бумажного моря.
Мнительный полковник Волков, после трудового дня в канцелярии, не знал покоя и ночью. Охрана складов, состоящая из только что мобилизованных безусых красноармейцев, была не надежна, а бедные иранские рабочие склонны к воровству. Приемы борьбы с этим злом у боязливого полковника были не затейливы. Иногда ночью он пробирался на склад прятался под брезент, надеясь собственноручно поймать злоумышленников. Очевидно, воры были об этом осведомлены и не попадались в руки полковника. Позднее было раскрыто два случая хищения, оба окончившиеся трагически, но об этом ниже.
В Миане мне удалось провести мероприятия, улучшившие работу пункта, и этим даже заслужить благодарность от Зорина.
Ознакомившись с постановкой дела, я понял, что Москва стремилась к скорейшему вывозу грузов на территорию СССР. Грузы, поступающие в Миане по железной дороге, перегружались затем на автомобили для переброски их в Джульфу. Железнодорожная станция «Джульфа Советская» находилась, примерно, в 350 километрах от Миане на советской территории и называлась «Советской» в отличие от одноименной железнодорожной станции — «Джульфа Иранская», расположенной через реку напротив.
Система переотправки грузов колоннами автомашин в «Джульфу Советскую» называлась «вертушкой», так как машины порожняком возвращались обратно за новым грузом, и главным назначением «вертушки» была скорейшая переброска ленд-лиза на советскую территорию. Этого требовали директивы, получаемые из Москвы и Тегерана, что объяснялось, очевидно, неуверенностью коммунистического правительства и прочности дружеских отношений с союзниками.
На пути скорейшей переброски грузов из Миане в «Джульфу Советскую», помимо недостаточного количества автомашин, стояло препятствие, порожденное исключительно советским бюрократизмом и затруднявшее работу. По договору о ленд-лизе, заключенному между США и СССР, американский груз считался переданным Советскому Союзу в момент его погрузки на корабли в американских портах. Ни гибель в пути, в море, ни потери во время перегрузок на суше — не касались американцев.
Небольшой американский штат в Бендершахпуре и Хо-ремшахре, выписывая накладные на погруженные вагоны, часто ошибался, и вместо вагона с сахаром в Миане приходил вагон с мукой, и наоборот. С точки зрения американцев, ошибка с оформлением отдельной железнодорожной накладной не играла роли, так как общее количество поступившего на пароходе груза, в итоге всей отгрузки, оказывалось правильным. Но советской стороной это воспринималось иначе. Всякая ошибка в отчетности скрывала в себе возможности хищения груза в Иране, в пути следования, а повторение ошибки при переотправке в СССР — возможность массового хищения продовольствия ленд-лиза голодным персоналом перевалочных баз и железных дорог СССР.
Еще Ленин изрек, что — социализм — это учет. Подрыв точного учета нарушал всю систему взаимного контроля и взаимной слежки.
Помимо этого, московские органы считали, что стоимость ленд-лиза неизбежно должна будет оплачиваться и надеялись уменьшить стоимость контрпретензиям по недостачам.
Кстати сказать, недостачи были перекрыты излишками. Поэтому московские и тегеранские органы требовали от конторы в Миане составления особых актов на каждый вагон, прибывающий с юга, с обязательным участием при приемке груза представителем иранской железнодорожной администрации и подписания железнодорожного коммерческого акта ж.д. станции «Миане». Начальник станции по понятным причинам стремился уклониться от разбора американо-советских недоразумений, не имевших никакого отношения к иранскому правительству и иранской железной дороге. Требуемое активирование поэтому задерживалось или приостанавливалось совсем.
Я предложил включить иранца в штат конторы, как лицо, наблюдающее за сохранностью грузов и выписать ему жалованье. Волков дал согласие, и после этого оформление актов не встречало затруднений. Начальник станции без разговоров ставил свою подпись на акте, хотя его представители и не участвовали в приемке грузов.
Другое мое рационализаторское мероприятие дало уже практический эффект. При разгрузке консервов бом-бажные (пробитые) банки отсортировывались и выбрасывались в специально вырытые ямы. Острая нехватка жиров в Советском Союзе натолкнула меня на мысль использовать жиры из испорченных консервов путем их перетопки. Большие партии испорченных консервов давали возможность получить солидное количество жиров. С этой целью я организовал перетопку колбасных и мясных консервов. Бобмажные банки рабочие разрубали топором, а затем в больших котлах вытапливали жир и сливали в банки. В короткое время рабочие, таким образом, вытопили несколько сот тонн жира, который мы отправили в СССР, с пометкой, что жир этот годен для технических целей.
Волков был против такого хлопотливого начинания, Актирование и уничтожение консервов было уже знакомым налаженным делом, от него не могло произойти никаких осложнений. А тут вдруг перетопка! Как бы чего не вышло, за что потом придется отвечать. Повсюду, где принимается в Иране продовольственный ленд-лиз, спокойно гниют в земле десятки тысяч банок консервов, а зачем нам хлопотать, так размышлял Волков. Неожиданно для него, вместо нахлабучки, мы получили благодарность. Оказалась, что жир был очищен в г. Эривани на заводе и признан годным для употребления в пищу. Это позволило нам послать голодающему русскому населению дополнительное продовольствие за счет использования «отходов», до этого обреченных на гниение в земле.
Случай с организацией перетопки показал мне еще раз, как советские администраторы зачастую, за бумажной рутиной, не видят живой жизни. Ведь тогда население страны сидело на голодном пайке, детским садам отпускалось продовольствие из расчета 150–200 г жиров на одного ребенка в месяц. В Иране же, привезенное за десять тысяч миль продовольствие гноили в земле, вместо того, чтобы с небольшой затратой труда получить из отходов тысячи тонн жира. И по сей день на территории приемочных баз ленд-лизовского продовольствия в Каз-вине, Пехлеви, Тавризе, Бендершахе и других, — сохранились живые памятники — гигантские могилы отсортированных и сгнивших в земле консервов — колбас, ветчин, шпика и т. д.
Постепенно налаживалась работа и с отчетностью, хотя бумажное море продолжало захлестывать персонал конторы, хотя и работавшей по 18 часов в сутки.
Успокоенный общим ходом дела, Волков сосредоточил свою бдительность на борьбе с хищением со склада. Наиболее ходким и спекулятивным рыночным товаром в Иране в это время были автомобильные шины. Шины, поступающие от союзников, шли на нужды армии. Нормальное снабжение гражданского автотранспорта нарушилось, цены на авторезину на рынке поднялись в десятки раз, и частный автотранспорт простаивал. Эти условия, естественно, поощряли воров, стремящихся поживиться ленд-лизовскими покрышками.
Однажды, как выяснилось впоследствии, один из иранских рабочих-грузчиков после окончания работы спрятался на территории склада и, под покровом ночи, прорезав два ряда колючей проволоки, стал выносить автопокрышки со склада. С противоположной стороны ограды покрышки принимал его сообщник. Территория склада освещалась шестью прожекторами на сторожевых вышках, размещенных по углам и в центре периметра ограды. Освещение было недостаточным, и вся ограда со сторожевых вышек не просматривалась. Воры на это и рассчитывали, но их подвел случай. Вытаскивая из штабеля покрышки, они потревожили соседний штабель, посыпались ящики. Красноармейцы открыли огонь из автоматов. Один из злоумышленников был убит на месте, другой смертельно ранен. Это происшествие привело полковника Волкова в административный раж, он увеличил бдительность и обнаружил еще одно преступление.
На поверке красноармейцев, на шинели одного из них обнаружили капли сгущенного молока. Мальчугана допросили с пристрастием, и он сознался, что с ребятами украл два ящика сладкого сгущенного молока, которое они зарыли в укромном месте и украдкой лакомились во время ночного дежурства. Делу о хищении молока группой часовых-подростков дали ход. Устроили показательный суд, на котором произносились громовые патриотические речи на тему о том, что одни доблестно умирают на фронте, а другие вонзают им нож в спину. Все виновные были приговорены, разжалованы и отправлены в штрафные части. В те самые, живыми телами которых советский генералитет разминировал немецкие мины поля для безопасного прохода атакующих врага танков.
По-видимому, Волков был уверен, что проявление такой бдительности будет оценено с наилучшей стороны. В этом же, очевидно, были уверены и члены военной прокуратуры, приезжавшей судить этих безусых мальчиков за содеянное ими «злодеяние».
Но полковнику Волкову пришлось пережить еще одно нелегкое испытание. Примерно через год после моего приезда в Миане, туда нагрянула ревизия, которую назначил сам Микоян. Приехав из Москвы, члены комиссии были настроены агрессивно, решив, однако, во что бы то ни стало доказать свой авторитет и оправдать расходы по командировке, затраченные государством. Возглавлял комиссию начальник главного управления Министерства Внешней торговли А.П. Поляшук, в состав комиссии вошли — инспектор МВТ Шпигель, начальник СМЕРШ советского транспортного управления в Иране полковник Рыбалко и три бухгалтера, мобилизованные из аппарата в Иране.
Заскрипели перья ревизоров. Началась проверка складов, внезапные инвентаризации, проверки складских документов, вызовы сотрудников в кабинет грозного полковника СМЕРШ. Обильной рекой потекли сплетни и доносы. Кругом ценности, реальные ценности, навороченные целыми горами. Как же может быть при этом, чтобы никто не соблазнился и чего-либо присвоил? В отсутствие работников склада на квартирах проверялись чемоданы и шкафы. Комиссия оторвала весь персонал складов от работы. Бедный полковник Волков ходил сам не свой.
— Что мне грозит? Понапишут, а потом доказывай, — говорил он, утирая разгоряченное от волнения лицо.
По каким-то причинам комиссия перестала обращаться непосредственно к Волкову, а стала вызывать для объяснения меня и других работников.
— Такие действия не предвещают ничего хорошего, — делился со мной Волков и печально смотрел мне в глаза.
Один из кладовщиков П. уличен грозным СМЕРШем… у него в чемодане найден перочинный нож с клеймом «сделано в США» и бедняге пришлось вести представителя СМЕРШ на базар и доказать, что злополучный нож куплен у иранского торговца.
Обыски на квартирах сотрудников, сплетни, подсиживания — все эти неизбежные спутники всякой советской ревизии — нарушили дружную работу производственного персонала конторы. Работники горели желанием скорее отправить грузы, не жалели сил — и вот приехал кто-то, чтобы все испортить и исковеркать.
Не обошлось и без комических эпизодов. Однажды вечером я работал с Волковым в его кабинете. Раздался стук в дверь.
— Войдите, — крикнул Волков.
Дверь открылась и на пороге появились две фигуры, одна в военной форме, другая — в штатском.
— Это за мной, — тихо пролепетал Волков, бессильно привстав с кресла. Тут же выяснилась ошибка: они случайно постучали в нашу дверь в поисках нужного им начальника станции «Миане». На этот раз Волков отделался, как говорится «легким испугом».
Ревизоры все пытались найти, к чему бы придраться.
При разгрузке вагонов с консервами значительное количество картонных коробок оказывалось негодным, тара заменялась деревянной. Разбитые картонные коробки собирались, общее количество картона взвешивалось, составлялся акт и картон приходовался на склад. Из-за отсутствия в Иране картонного производства иранцы охотно покупали старый картон по высокой цене. Картон продавался иранцам, что было санкционировано Министерством, а средства переводились в Тегеран. Ревизоры задались целью проверить, сколько же всего было пере-тарено ящиков и поступило картона. После проверки тысячи экземпляров актов и накладных они убедились, что все в порядке и стали собираться на другой объект ревизии, на поиски новых «злодеяний». На ревизию конторы в Миане они затратили более полутора месяцев… постановка оперативной работы и отчетности в Миане находилось в лучшем состоянии по сравнению с другими объектами, и наш персонал вновь получил благодарность.
На обратном пути в Москву ревизоры заехали на трех джипах к нам проститься, были торжественно приняты повеселевшим Волковым. Под вечер сильно подвыпившие гости сели в джипы, нагруженные до предела приобретенным в Иране добром, и с победоносным видом отбыли через Тавриз в Москву, захватив с собой в Тавриз, с согласия Волкова, на пару дней одну из наших миловидных секретарш. Принимая во внимание высокий ранг гостей — ревизоры самого Микояна! — Волкову ничего не оставалось делать, как выписать секретарше служебную командировку. Причина для этого, правда, была «уважительной»: оказалось, что председатель комиссии Поляшук был к ней неравнодушен и пользовался взаимностью еще во время ревизии… Поведение Волкова, Поляшука и секретарши вызвало молчаливое, но очень дружное осуждение работников конторы.
В конце 1944 года свое отношение к действиям начальства приходилось скрывать в большей мере, чем, скажем в тридцатых годах, а тем более за границей. Упадок морального уровня административной верхушки коммунистической бюрократии становился все более очевидным и все прогрессирующим…
В этом смысле показательно отношение к иранскому персоналу. Подбор и укомплектование штата рабочих проводилось по согласованию с органами ТУДЕ. Бригады, руководившие погрузочно-разгрузочными работами, являлись обязательно членами партии ТУДЕ. Переводчиками в конторе работали прямые советские агенты, завербованные из так называемых «магаджиров», т. е. персидских подданных, высланных с территории СССР во время ежовской чистки. Отношение к персидскому персоналу было самое грубое и вызывающее. Мне запомнился один инцидент. В разгар ревизии, когда Волков особенно нервничал и ждал всяческих неприятностей, он и Поля-шук проходили по территории склада. Я шел позади их. Был обеденный перерыв и оборванные, проголодавшиеся грузчики сидели в тенистых уголках и меланхолично жевали лаваш, макая этот скрученный жгутом хлеб в консервную банку.
Неожиданно Волков остановился возле пожилого иранца, лицо его побагровело, он наклонился и вырвал у него из рук консервную банку. Иранец испуганно вскочил. Волков вылил жидкость из банки себе на руку. «Преступление» налицо: в банке оказался разведенный в воде сахарный песок. Ничего не говоря, Волков провел по лицу иранца вымазанной в липком сиропе рукой, а остатки выплеснул ему на бороду. Бедный старик-грузчик «украл» социалистическую собственность, высыпавшуюся при разгрузке из мешка и «преступным образом» питался ею… Так проявил свое рвение к охране коммунистической собственности полковник Волков. Мне было стыдно, до боли стыдно перед иранцами за поруганное достоинство русского человека.
Испуганный грузчик стал вытирать бороду. Московский ревизор Поляшук, по-видимому, остался доволен расправой Волкова.
— Другой раз подумает, прежде чем полакомиться, — пробурчал он, и обход складов продолжился.
Пренебрежительное отношение к иранскому населению проявлялось во многих случаях, что не могло не вредить советскому престижу. Борьба с хищениями авторезины выходила из рамок охраны складов. Для этой цели создали специальный отдел охраны грузов при управлении в Тегеране, имеющий во всех конторах своих уполномоченных. Ретивые МГБисты разъезжали на джипах по дорогам Ирана, останавливали проходившие автомашины и осматривали покрышки на колесах. При малейшем подозрении, если на резину не было документов, тут же на дороге автопокрышки снимали и увозили, а автомобиль оставался стоять на колодках. Ходили упорные слухи, что многие владельцы платили крупные суммы, лишь бы им дали возможность оставить резину и продолжать путь.
Большое бесчинство было допущено отделом охраны грузов в отношении группы зенджанских кустарей. Группа кустарей в Зенджане занималась изготовлением складных походных ложек, ножей, вилок и других мелких вещей. На эти изделия расходовалась латунь и другие металлы. Администрация отдела охраны грузов решила — раз идетна изделия латунь, значит, она краденная, откуда, мол, «персюки» могут взять латунь? МГБисты сделали облаву и отобрали у кустарей готовые изделия и полуфабрикаты в количестве 50–60 кг. Два ящика с отобранным трудовым добром кустарей привезли и поставили на складе в Миане. Насилие было столь явным и возмутительным, что кустари пожаловались в советское посольство и своим властям в Тегеране. Дело дошло до ВЦИК СССР и тянулось около двух лет. В конце концов все вернули кустарям.
Строгие взыскания и афиширование хищений, произведенных мелкими сотрудниками — советскими или иранскими, — не распространялись на высшую советскую администрацию. В этом случае подобные инциденты замалчивались и тщательно скрывались от служащих иранцев.
Почти одновременно с показательным процессом над пятью красноармейцами, похитившими два ящика сгущенного молока, раскрыли хищение сукна работником-партийцем, назначенным Министерством внешней торговли на должность заведующего складами. Этот человек, как было известно, имел большие связи в МВТ и получал в иранской валюте значительную ставку. Все-таки он воспользовался случаем и украл целую штуку черного шевиота. Вскрылось это случайно. Один из сотрудников отдела охраны заказал себе костюм у того портного, которому была сдана штука шевиота для пошивки нескольких костюмов и нескольких пальто для расхитителя и его жены. Расследование подтвердило хищение, но никакого показательного процесса в связи с этим не было: виновного просто откомандировали в СССР.
* * *
Общение с иностранцами в частном порядке, как это уже отмечалось, категорически запрещалось. Одну из сотрудниц конторы Миане заподозрили в сожительстве с иранцем, поднялся переполох. Надо сказать, что сотрудница была некрасивая, непривлекательная, скромная женщина, трудно поверить в справедливость выдвинутого против нее обвинения. Волков запросил секретной почтой администрацию посольства в Тегеране. Решение об откомандировании этой женщины приняли немедленно, но тут встала сложная проблема. Как обычно, в условиях заграницы, сотрудница была «обвинена» и «осуждена» заочно, ничего не зная о своем откомандировании, поэтому возникал вопрос — как она будет реагировать на это решение.
— А вдруг она сбежит? Тер себе ладонью лоб в нерешительности Волков. — Она сбежит к своему персу, а я… а я тогда отвечай за нее? Нет, так нельзя, придется сопровождать ее до границы. Но кого послать?
После некоторого раздумья эту щекотливую миссию поручили старшему лейтенанту Е., Волков таинственным голосом, совершенно конфиденциально, отдал лейтенанту распоряжение:
— Отвезете и проследите переход ею границы СССР в Джульфе. О том, что вы ее сопровождаете, она ничего не должна знать. Отвечаете головой. Повторите приказ.
Несчастный Е. изменился в лице.
— Есть довести и проследить за переходом гражданки X. границы.
Н лейтенант взял под козырек. Мы вышли из кабинета Волкова. Доблестный лейтенант-фронтовик растерялся, меня же душил смех.
— Нет, вы подумайте, какое нелепое задание, — говорил он упавшим голосом. Ведь везти-то под арестом не разрешают. А если она в пути убежит? В Тавризе придется ночевать. Может, она через окно выпрыгнет.
Лейтенант придумывал все новые варианты возможного бегства этой несчастной. Е. подал рапорт, ссылаясь на болезнь, но Волков был тверд и на уступки не пошел.
Бедную девушку лейтенант благополучно довез до советской границы и передал кому следует. Она не сделала ни одной попытки бежать или протестовать. Напуганная до полусмерти всем происшедшим, она безропотно подчинилась своей судьбе, боясь еще худшего. Уехала она жалкая, заплаканная, сопровождаемая лейтенантом, выполняющим идиотский приказ. По возвращении лейтенант, облегченно вздыхая, рассказывал, как он не спал всю ночь, которую провел в тавризской гостинице, дежуря и прислушиваясь, не собирается ли она прыгать из окна?
* * *
Аппарат Миане по посольской линии находился в ведении Генерального консульства в Тавризе, поэтому мне пришлось там бывать. Консульство это позднее играло руководящую роль в авантюре правительства Пешевари. Генеральным консулом в Тавризе был Аркадий Андреевич Красных. По роли, которую он играл в советской политике в Иране, это второй человек после Садчикова — посла в Иране. Помимо Генерального консульства в Тавризе, Красных подчинялись консульства в Маку, Ардебиле и Ризаэ. Своим сильным потрепанным, отечным лицом, бесцветными выпуклыми глазами, Красных производил довольно отталкивающее впечатление. Его слабостью являлась страсть к игре на бильярде. Играл консул неважно, но служащие консульства, несмотря на это, часто проигрывали своему начальнику.
Жена Красных Анна Михайловна, крашенная, молодящаяся особа, работала в тавризском ВОКСе на особом положении, как жена «самого Красных».
Личный персонал Консульства включал большое количество советских азербайджанцев. В Консульстве, в обществе А. Красных, я увидел азербайджанца, перед которым он рассыпался в любезностях. Это был Мирза Ибрагимов, бывший заместитель председателя совнаркома Азербайджанской ССР. Как сообщили консульские работники, он приехал в сопровождении большой группы советских азербайджанцев со специальным заданием Кремля.
Консульство помещалось в глухом переулке, в доме, огороженном высокими глинобитными стенами. От здания Консульства, как и от самого консула Красных, веяло чем-то отвратительно-провокационным. В канцелярию Консульства непрерывно приходили какие-то люди с восточной внешностью, пропускаемые через большие железные ворота по особым паролям.
* * *
Вернувшись из поездки в Тавриз, я через некоторое время стал свидетелем религиозной мусульманской процессии, устроенной в Миане в связи с праздником «Шахсей-Вахсей». Это была группа молодых иранцев, примерно человек 50, обнаженных до пояса. Каждый участник процессии держал в руках плеть, состоящую из рукоятки с приделанными к ней 10–12 металлическими цепочками. С пением гимна «Али» медленно, в такт гимну, шла толпа. Участники процессии, ритмично, в такт гимну хлестали себя по обнаженным спинам плетьми. Спины посинели от ударов и с них скатывались тоненькие струйки крови на черные широкие шаровары.
Я слышал от местных армян, что иностранцам рекомендуется уходить подальше от процессии. Религиозный экстаз в эти моменты достигает апогея. Именно во время «Шахсей-Вахсей» растерзали Грибоедова. Процессия шла по направлению к мечети. Основная часть религиозного ритуала происходит в стенах мечети, где во время богослужения кающиеся, в такт пению, наносят себе ножевые ранения по бритой голове. Рассказывали, что иной кающийся наносил себе удар такой силы, что прорезал не только кожу, но пробивал и кость и умирал от кровоизлияния в мозг.
Я с интересом вглядывался в лица участников процессии. Зрелище довольно трагическое и необычное. Шел цвет мусульманской религиозной молодежи. Внезапно одно из лиц мне показалось странно знакомым. Где я его видел? А видел я его один раз!.. Перед глазами всплыло одутловатое лицо Красных, его бесцветные глаза. Да, несомненно, этот тот иранец, которого я видел выходящим из кабинета Красных. Какая может быть связь у этого религиозного юноши с деятельностью Консульства? Неужели это все-таки возможно, что советские органы засорили и религиозные круги Ирана совей агентурой? Неужели и среди этих правоверных сынов Ирана есть люди, не понимающие истинного характера деятельности советских органов? Иранец обратил внимание на мой пристальный взгляд, и мне показалось, что он тоже узнал меня, — легкая улыбка промелькнула на его лице.
Процессия медленно прошла мимо, заунывно звучал гимн «Али», бренчали цепи. Я смотрел вслед удаляющимся, почерневшим, вспухшим спинам.
* * *
В 1945 году количество грузов стало уменьшаться, и ко времени капитуляции Германии приток их вовсе прекратился. В этом же году меня снова перевели на работу в Тегеран, с увеличением оклада заработной платы до 1180 туманов в месяц.

Глава VII
«Опьянение нефтью»
Итак, я снова в Тегеране. Город мне уже не кажется не-приветливым и чужим. Снова я погружаюсь в бумажное море советской канцелярии. Но иногда «бумажное море» дает ясные ответы на непонятные до этого действия советских органов. Документы, с которыми мне пришлось познакомиться по возвращении в Тегеран, раскрыли мне глаза на крупную коммунистическую аферу.
Еще работая в Миане, я не мог понять сущности и объема мероприятий торгпредства и посольства, называемых «коммерческими операциями». Эти операции окутывал покров строгой тайны. Из Тегерана в Миане и Тавриз приезжали таинственные личности, которые встречались с иранскими купцами в Миане, Ардебеле, Маку, Резаэ, Тав-ризе и других пунктах иранского Азербайджана. Из документов стало ясно, что, по заданию Министерства внешней торговли и Министерства иностранных дел СССР в Иране, ведутся крупные спекуляции в интересах извлечения местной валюты для финансирования особых подрывных политических мероприятий. Кремль предлагал монополизировать весь автотранспортный рынок Ирана, используя нехватку резины.
Организация всей этой работы московскими органами поручили видному работнику Министерства внешней торговли, назначенному на работу в Иран — Л.Н. Краснову. То был старый работник Внешторга, считавший себя непревзойденным специалистом по внешней торговле. Собственно, основной функцией Льва Наумовича Краснова в Иране, вытекающей из «особого» задания Микояна и Вышинского, являлось добывание средств для финансирования деятельности ТУДЕ и мероприятий по подрывной работе в Иране путем различных спекулятивных операций.
В период 1943–1945 годов в перевозку грузов ленд-лиза были втянуты и иранские транспортные общества. Большой объем автотранспортных перевозок, как для нужд союзников, так и для нужд самого Ирана, — создал весьма благоприятную конъюнктуру фрахтового рынка. Фрахт на перевозки автотранспортом поднялся более, чем в десять раз. Этому также способствовали высокие цены на авторезину, поднявшиеся в двадцать с лишним раз. Для спекуляции Краснова подобная конъюнктура открывала большие возможности. Организационно осуществить широко задуманную спекуляцию не представляло особых затруднений, и агентурная сеть, созданная Красновым, охватила своими щупальцами транспортный рынок Ирана. В интересах этой спекуляции вся ленд-лизовская авторезина крупных размеров, предназначенная для крупнотоннажных автомашин, а также автозапчасти для машин разных марок зачислялись в неприкосновенный фонд Краснова.
Полученные от США по договору ленд-лиза автошины, в количестве более 100 000 штук, и сотни тонн автозапчастей были расценены по спекулятивным рыночным ценам и послужили базой для развертывания спекуляции. Чтобы прибрать к рукам частные иранские транспортные конторы, авторезина стала выдаваться Красновым иранским купцам на условиях арендных договоров, предусматривающих равномерное погашение спекулятивной стоимости авторезины по мере пробега, а также оплаты стоимости автозапчастей. Договоры предусматривали право контроля со стороны советских органов эксплуатации автотранспорта и проверку путевых листов этих контор на перевозки. Указанные мероприятия дали возможность советским органам в Иране диктовать рынку высокий фрахт и иметь с этих операций колоссальные доходы.
Наличие военных контрольно-пропускных пунктов на шоссейных дорогах упрощало контроль за всеми перевозками иранских транспортных обществ. Таким путем осуществлялась спекуляция на принципе государственной монополии, хотя и без ее официального объявления.
Отдел охраны грузов был косвенно включен в эти операции, получив задание останавливать на дорогах автомашины, не имеющие советских путевых листов, и снимать с них автошины.
В итоге этих финансовых манипуляций Краснова к моменту окончания войны многие иранские купцы разорились, но зато подрывные мероприятия ТУДЕ и посольства бесперебойно финансировались за счет средств самого Ирана, вырученных на спекуляции с американскими грузами.
Своеобразный «хозрасчет» в политике, таким образом, соблюден. Все эти «достижения» Краснова стали возможны, конечно, благодаря только американскому снабжению. Не довольствуясь миллиардными доходами от этих операций, Краснов приумножил доходы, используя обратные рейсы автоколонн. На обратном пути от советской границы автоколонны брали частный груз или груз Жернового управления Ирана по рыночному фрахту. Навязанный советской монополией высокий фрахт позволял и на этих операциях иметь значительные прибыли.
— Война, войной, а прибыль прибылью, — говорил Краснов, потирая руки от удовольствия и подсчитывая миллиардные доходы. Проделав новую дырочку в лацкане пиджака, он нацепил очередной орден.
Подчеркнуто элегантный, среднего роста Краснов непрерывно находился в состоянии напряженной деятельности. В приемной его конторы всегда было много иранских купцов и разных просителей. Три стенографистки и несколько секретарш сбивались с ног. Краснов любил подчеркнуть, что он работник немалого масштаба и не мог отказать себе в удовольствии продиктовать телеграмму «самому» Микояну в присутствии сотрудника канцелярии. Конечно, нормально это надо было делать в кабинете непосредственно стенографистке. Больше того, диктовать телеграммы при сотрудниках, по законам спецчасти, не разрешалось, но Краснов нарушал это правило. Он выскакивал из кабинета с вдохновенно рассеянным видом, как поэт, которому снизошло с Парнаса новое блестящее четверостишие и у которого вдруг не оказалось под рукой бумаги, чтобы немедленно запечатлеть эти божественные строки.
— Марья Николаевна! — восклицал Краснов, — телеграмму Микояну.
Тренированная Марья Николаевна бросала работу и кидалась к машинке.
— Москва, Кремль, товарищу Микояну! — торжественно начинал Краснов и делал многозначительную паузу. После вступления излагалась сущность нового срочного спекулятивного мероприятия. Нередко подобные телеграммы затрагивали и пустяковые спекуляции — купцу Али Ахмедову надо отпустить четыре пары американских покрышек! Невероятно, но это факт — без разрешения самого Микояна Краснов не имел права включать новое лицо в орбиту снабжения ленд-лизовскими покрышками, даже в том случае, когда вопрос шел всего о нескольких штуках.
Недоверие к работникам на местах и бюрократизация доходили до того, что купец Али Ахмедов, находящийся в Тегеране, получал четыре покрышки только с согласия наркома Микояна. Неудивительно, что приемная Краснова всегда полна просителями, канцелярия напряженно работала, а в Москву ежедневно посылались сотни писем, телеграмм и радиосводок.
К чести Краснова, надо сказать, что он сумел скрывать от посетителей эту слабую сторону советской системы. Каждому иранцу, проникавшему в его кабинет, после долгого ожидания в приемной, Краснов являлся во всей мощи и блеске всесильного диктатора. Задержка в разрешении на отпуск четырех или ста покрышек оставалась для посетителей окутанной тайной. Под этой задержкой могло скрываться и личное нерасположение Краснова к просителю, и, конечно, его колоссальная занятость и, наконец… высшие политические соображения. Надо отдать должное способностям товарища Краснова: он умел за покрышками выжимать из просителей максимум для Советского Союза и не только денежной, но и политической. Когда Краснов отбыл в Советский Союз, то оставил по себе долго ненависть местного иранского купечества.
Краснова нельзя считать исключением в среде советских вельмож-хозяйственников: он является типичным для этой категории советских дельцов. Его можно было бы назвать маленьким паучком на службе у большого паука — государства-спекулянта.
Положение Краснова по отношению к Микояну было, конечно, незавидно, но если посмотреть, как использовал Краснов отпущенную ему крупицу власти, то паутина, сплетенная этим маленьким паучком, станет исключительным достижением человеческих способностей и человеческой подлости. Для того, чтобы подчинить и внушить страх перед всемогуществом системы, нужны ограничения хотя бы в виде запроса разрешения у Микояна на выдачу четырех покрышек. Нужно иметь выдающиеся организационные способности, чтобы Красновы стали мелкими винтиками, выполняющими одну и ту же дьявольскую работу заложения здорового мира и строительства мирового государства-рабовладельца.
Позднее, в 1948–1949 годы, в беседах с советским послом в Иране Садчиковым, я опять столкнулся с вопросом о советской спекуляции и миллиардных доходах. На этот раз вопрос стоял в плоскости сокрытия от иранского Министерства финансов факта спекулятивных прибылей от незаконных операций.
* * *
Яркий майский день 1945 года. Тегеранское радио сообщило о капитуляции Германии. Всю советскую колонию иранской столицы созвали на митинг. Большой сад при торговой миссии полон возбужденной толпой. Докладывал высокий сутуловатый полковник Р., на крыльце миссии устроили импровизированную трибуну, и речь была хорошо слышна всем.
— Победа! — громогласно начал докладчик. — Мы разбили Германию! Мы возвращаемся к мирному труду!
Я посмотрел на окружающих. К радости от окончании кровопролития примешивалось что-то… При упоминании о возвращении к мирному труду улыбки на многих лицах исчезли. Мирный труд означал возвращение на родину. До сегодняшнего дня каждый работник здесь не раз слышал от своего начальства страшную угрозу — «откомандировать на родину», — если нарушено какое-то правило или не выполнено какое-то приказание, — в ушах уже словно раздавался окрик-угроза: «В 24 часа откомандировать на родину!» Родина стала пугалом, и возвращение на родину — наказанием. Война закончилась, очевидно, все скоро вернутся домой. Это значит, сытая жизнь кончится, это значит, что надо будет снова голодать, жить в переполненных квартирах и строить новые осточертевшие пятилетки. Понятно, что улыбки исчезли у многих лиц.
— Наш народ победил, — продолжал докладчик, — но мы не можем успокоиться, мы должны быть бдительными. — Докладчик высоко поднял руку и еще раз повторил. — Да, мы должны быть бдительны!
В толпе уже никто не улыбался, было тихо.
— Мы должны и дальше развертывать нашу экономическую и политическую мощь, — гремел докладчик, — мы должны оказать поддержку нашим борющимся братьям. Китайские трудящиеся продолжают борьбу с империализмом, они ждут раскрепощения… Вопрос борьбы с Японией еще не разрешен, и Чан Кайши не может считаться нашим союзником.
Радость и возбуждение, невольно охватившие слушателей в начале митинга, постепенно развеялись. Перспектива новых войн, новых жертв и лишений ясно рисовались каждому. Дальше собрание шло, как полагается идти всякому советскому собранию. При упоминании имени товарища Сталина раздавались продолжительные аплодисменты. При упоминании о необходимости преодолевать трудности и «подтянуть пояса» тоже раздавались аплодисменты. Митинг закончился, сотрудники разошлись.
* * *
Все виденное и слышанное мной за полтора года, проведенные в Тегеране и Иранском Азербайджане, ясно говорило о том, что Иран вскоре будет ареной борьбы за власть. Вернувшись в Тегеран, я много слышал о том, что советские войска, временно занимавшие северный Иран, произвели тщательную геологическую разведку на нефть и что в Иранском Азербайджане, в провинциях Гилян и Мазандаран, разведка показала наличие больших запасов нефти. Воинские части проводили геологическую разведку под видом изысканий на воду и постройки артезианских колодцев, которые имели целью, конечно, облагодетельствовать бедное иранское население, страдавшее от недостатка воды в этих районах. Под этим предлогом составили подробную геологическую карту всего северного Ирана и оставалось найти способ для захвата исследованной территории. Такой попыткой как раз и была авантюра с организацией правительства Пешевари, о чем ниже.
* * *
Вскоре после капитуляции Германии генерала Зорина назначили председателем комиссии по репарациям с Германии, и он предложил мне ехать с ним. Одновременно посольство предложило остаться на работе в Иране. Мне не хотелось выполнять функции грабителя в Германии и я вздохнул с облегчением, когда из Москвы мне пришло распоряжение остаться в Иране. Сразу после этого я получил двухмесячную командировку в города Бендершах и Гарган: Бендершах «в прорыве» и я должен был наладить работу по ликвидации этого пункта.
Обстановка в провинции Мазандаран резко отличалась от обстановки в Азербайджане и работа советского консульства в Гаргане носила несколько иной характер. Дело в том, что во время коммунистического переворота в России большое количество туркмен, бывших русских поданных, перегнало свои стада на персидскую территорию и осело в Персии. По разным соображениям, советское правительство было заинтересовано в их возвращении. С одной стороны, наличие эмигрантов, не желавших возвращаться на родину, само по себе вредило престижу СССР на Востоке, с другой стороны, — у бежавших туркмен — большие стада и включение их в колхозы советской Средней Азии укрепило бы расшатанное хозяйство последних. Помимо этого, посольство было заинтересовано в вербовке среди туркменов агентуры для работы в Иране.
Консулом в Гаргане служил туркмен Алиев. Он обладал приятной, располагающей внешностью, получил хорошее образование и умел подойти к старикам-туркменам. По разным поводам Алиев устраивал приемы и встречи в консульстве.
Почетных гостей туркмен Алиев принимал в устланном дорогими коврами зале. Сидя по-восточному, на ковре, поджав ноги, облокотившись на шелковые подушки и попивая зеленый кок-чай с восточными сладостями или за азиатским жирным пловом, гости слушали сказочные речи о том, как хорошо теперь живется в Советском Союзе, как богато, сытно и свободно без эксплуатации и каких-либо притеснений живут в родной Туркмении. Старики приходили, слушали, пили и ели и все-таки сомневались: слишком убедительны были рассказы беглецов, которые постоянно просачивались из-за советской границы и рассказывали совершенно противоположные вещи.
* * *
В январе 1946 года меня вызвали в Тегеран к Христофору Георгиевичу Аганесяну, начальнику кадров посольства и одновременно генеральному консулу Советского Союза в Тегеране.
Генеральное консульство, как уже было сказано, помещалось в доме напротив советского посольства и играло роль главного вспомогательного учреждения по вербовке и укомплектованию советской агентурной сети в Иране.
Христофор Георгиевич, или Христик, как его звали за глаза сотрудники консульства и посольства, армянин по происхождению, выдвинулся из простых шоферов благодаря своему уму, беспринципности и недюжинным способностям. На него обратили внимание, как на человека исключительно способного в деле шпионажа.
Маленького роста, с впалой грудью и длинными, как у обезьяны, руками, Христик попал в институт Министерства иностранных дел уже в зрелом возрасте и после его окончания начал бурную карьеру в МИД. Его приемы в вербовке агентуры были просты и действенны. Вначале — любезное отношение, обычно через подставных лиц, наводящие разговоры, подарки, финансирование, обещание хорошей работы и т. д., позднее — запутывание и грубая, циничная эксплуатация на удочку жертвы.
Особенно любил Аганесян издеваться над старыми эмигрантами, поверившими в эволюцию Советского Союза. С этой категорией людей техника работы проста и хорошо разработана. Важно было только убедить эмигранта взять советский паспорт, после этого он мог годами дожидаться получения визы, попав в полную зависимость от генерального консула. С такой жертвой можно уже не стесняться и заставлять выполнять безвозмездно самые рискованные поручения.
Жена Аганесяна — миловидная армяночка, всегда прекрасно одетая, успешно фигурировала на официальных приемах и посольских пирушках.
Мастер руководства агентурой — Аганесян, так же твердо и грубо держал в своих длинных и цепких руках кадры сотрудников консульства и посольства. Несколько лет спустя, когда «прыжок Касенкиной»
[9] взволновал умы советских работников и особенно работниц за границей, Аганесяну пришлось проявить свои способности.
Многие из сотрудников посольства и консульства слушали передачи радио «Голос Америки», но признаться в этом официально, конечно, никто не мог. Вскоре после передачи по радио рассказа Касенкиной было устроено собрание с докладом Аганесяна на тему «О бегстве врага народа Касенкиной». По версии Христика, получалось так, что русские белогвардейцы сначала завлекли наивную советскую учительницу, потом впрыснули дурманящее лекарство и насильно увезли.
— А как же объяснить прыжок из окна, — раздался из публики женский взволнованный голос.
Докладчик остановился и строго посмотрел в сторону голоса. В зале притихли голоса.
— Это вздор и обычное американское трюкачество, — сразу нашелся Христик и добавил, обращаясь к наивной сотруднице. — Вас попрошу зайти ко мне в консульство завтра утром.
— И имейте в виду, — обратился он снова к залу, что я излагаю вам дело так, как оно происходило в действительности, а не так, как преподносит лживая пресса и радио в погоне за сенсацией и распространением слухов, позорящих наш великий Советский Союз.
После многозначительного заявления собрание прошло совершенно гладко и закончилось принятием резолюции, клеймящей Оксану Касенкину.
* * *
Приехав в Тегеран, я явился в особняк, занимаемый консульством. Мне навстречу попались несколько иранцев, старавшихся незаметно выскользнуть из здания. Дежурный проверил кто я и пригласил меня пройти в кабинет генерального консула.
— Вам нужно выехать в Тавриз. Мы сейчас укрепляем кадры в Тавризе, — заговорил деловито Аганесян, — к власти пришли демократы, а мы им симпатизируем.
Я вспомнил отталкивающую внешность тавризского консула, возню в консульстве и составление геологической карты северного Ирана советскими оккупационными войсками. Переворот произошел в декабре 1945 года, и у меня с самого начала не было никаких сомнений относительно инициаторов этой провокации. Осторожный Аганесян даже в разговоре с работником посольства называл организацию марионеточного коммунистического правительства — «приходом к власти демократов», который Советский Союз только «симпатизирует».
* * *
Через день после этого разговора я подъезжал на автомобиле к городу Казвину на границе, разделяющей территорию правительства Пешевари от остального Ирана. С одной стороны шлагбаума стоял легкий танк и несколько солдат под командой офицера войск шаха, с другой стороны — такие же солдаты, но под командой человека в кожаной куртке. При виде кожаной куртки мне вспомнился 1918 год и комиссары того времени. Патруль войск Пешевари проверил мои документы и беспрепятственно пропустил.
Тавриз мне показался угрюмым. Многие магазины закрыты, толпа посерела, много людей в кепках и кожаных куртках. Консульство, всегда походившее на крепость, теперь похоже на штаб. Непрерывно звонили телефоны, бегали люди, у которых из-под курток торчали револьверы. По радио все время передавались какие-то донесения.
В одно из моих посещений консульства я встретился там с Пешевари. Я стоял, разговаривая с сотрудником консульства. Во двор консульства въехал автомобиль с тремя иранцами. Двое из них, я заметил, прятали под пальто автоматы. Из автомобиля вышел седой человек и, прихрамывая, вошел в консульство. Лицо человека было мне хорошо знакомо — я его раньше видел в Тегеране. Оказалось, что это и есть Пешевари — глава нового «революционного» правительства.
Проковыляв в приемную, Пешевари довольно подобострастно стал здороваться с сотрудниками, его тут же принял Красных.
В Тавризе меня прикомандировали к торгпредству, и по роду своей работы я общался с советником по экономическим вопросам консульства. Знакомство с различными материалами давало мне возможность быть в курсе финансовых, экономических и политических затруднений, с которыми столкнулось правительство Пешевари.
Вся революционная эпопея, а вернее авантюра переворота Пешевари, была затеяна московскими органами в интересах овладения иранской нефтью. Позднее иранское правительство именно в этом вопросе сумело политически обыграть Сталина.
Помимо экономических трудностей, неблагоприятным для Пешевари стало наличие достаточно авторитетного и устойчивого центрального правительства Шахиншаха. Классический рецепт захвата власти, проверенный на опыте с Россией, то есть овладение государственным банком и казначейством страны в самом начале восстания, в Иранском Азербайджане не мог быть осуществлен. Выполнить это основное требование было возможно только с захватом столицы. Захватить же столицу означало идти на риск столкновения с бывшими союзниками, на что Сталин не решился. Благодаря этому, Пешевари, «революционер на хозрасчете», с самого начала оказался в условиях финансового кризиса. Сам факт существования в Иране правительства шаха оказывало, несомненно, психологическое влияние на население. Крестьянство относилось пассивно к соблазну грабежа помещиков. Значительная часть купечества и предпринимателей устремилась на правительственную территорию. Даже в среде рабочих марионеточное правительство Пешевари не встречало сочувствия.
В этом положении Пешевари должен был укреплять свою финансово-экономическую базу и добывать средства на содержание своего правительственного аппарата и армии. Материальная поддержка, оказываемая со стороны СССР, являлась временным явлением, о чем и было заявлено Пешевари.
Таким образом, для правительства Пешевари оставался только путь увеличения налогов на население и, в первую очередь, на зажиточные предпринимательские круги. Подобные меры не могли быть популярными, но Пешевари вынужден был на это пойти. Увеличение налогов отрицательно сказалось на и без того невысоком престиже правительства. Расходы нарастали, а покрывать их становилось все труднее.
С целью покрытия сметного дефицита правительство Пешевари решило использовать продовольственные трудности центральной части Ирана, вызванные отторжением северных провинций Иранского Азербайджана и ввело систему обложения пошлиной в форме оплаты «джа-вазов» за право вывоза продовольствия за пределы Иранского Азербайджана. Северные провинции Азербайджана всегда снабжали центральные районы Ирана сельскохозяйственными продуктами и сырьем. Искусственное отторжение этих провинций привело к росту цен на сельскохозяйственные продукты в центральной части Ирана. Правительство Пешевари, при непосредственном участии торгпредства СССР широко это использовало.
Запасы зерна и других сельскохозяйственных продуктов скопились в северном Иране в руках отдельных помещиков еще со времени войны. Консул Красных оказал давление на Пешевари и в результате этого основанную часть перевозок продуктов передали советскому акционерному обществу «Ирансовтранс». Фактически это фиктивное акционерное общество работало, как транспортный отдел торгпредства, эксплуатируя 200 автомашин «Студебекер», переданных по ленд-лизу. Этим, в какой-то мере, посольство пыталось компенсировать свои затраты на организацию «демократического движения» в Иранском Азербайджане.
Советское правительство через посольство в Иране, хотя и старалось внедрить принцип «хозрасчета», но вынуждено оказывать финансовую поддержку своему детищу — правительству Пешевари, в отделение банка которого были вложены крупные суммы через Русско-Иранский банк.
Все эти трудности сказались не сразу. Когда я приехал в Тавриз, консул Красных, несший главную ответственность за готовившуюся Советами еще в 1943–1944 годах авантюру, был полон самых радужных надежд.
Консульство, как я уже сказал, являлось фактическим штабом, руководившим действиями Пешевари. Радиостанция консульства находилась в непрерывной связи с посольством в Тегеране и Министерством иностранных дел СССР. Персонал консульства был подобран в основном из уроженцев Советского Азербайджана. Первые помощники Красных азербайджанцы — Саид Заде и Меликов. На периферии аппарат консульства возглавлялся советскими азербайджанцами Ашумовым и Аликперовым. В подчинении этих людей находилась вся агентура, завезена еще раньше из СССР азербайджанцем Мирзой Ибрагимовым, занимавшим ранее немаловажный пост — заместителя председателя Совета народных комиссаров советского Азербайджана.
Вопросами пропаганды ведал азербайджанец Гаджиев. Этот живой, пронырливый человек, совмещал должности председателя месткома советской колонии в Тавризе, директора отделения Международной книги (имевший магазин в Тавризе), руководителя отделения Госстраха и уполномоченного Союзэкспортфильм.
Главным врачом в советской больнице в Тавризе был азербайджанец Самедов, игравший далеко не последнюю роль в политической игре консульства. Фактически, за исключением самого Красных, спецотдела и охраны, все руководящие посты занимали советские кавказцы.
Если сердце и мозг правительства Пешевари — советское консульство, то центр самого консульства — спецотдел. Возглавлял отдел подозрительный и нелюдимый Трегубов. Окна спецотдела были заключены в толстые тюремного вида решетки, особая секретная сигнализация, сложная система запоров входной железной двери дополняли устройство спецотдела, напоминающего скорее не рабочее помещение, а хранилище-сейф. Днем в трех комнатах отдела душно из-за плохой вентиляции и постоянного запаха жженого сургуча, которым запечатывали пакеты с секретной почтой. Особые меры предосторожности были предусмотрены на случай внезапного налета. В отделе устанавливалось круглосуточное дежурство, дежурный в ночное время обязан выполнять специальную инструкцию. В случае тревоги он должен сжечь все документы, находящиеся в сейфе. Дежурный запирался в помещении спецотдела изнутри системой запоров и в ночное время даже начальник спецотдела не мог проникнуть в помещение без ведома дежурного. Для быстрого уничтожения, в случае тревоги, документов, в спецотделе хранилась специальная горючая жидкость, которая в короткое время могла превратить комнату-сейф с документами в пылающую печь. Личная охрана консульства была хорошо вооружена. Помимо этого, в консульстве хранился запас оружия, включая автоматы и ручные гранаты, достаточный для вооружения двух взводов.
Консульство так и не подверглось вооруженному налету, но если бы налет и произошел, то, можно сказать с уверенностью, что в руки налетчиков не попало бы ни одного документа, компрометирующего советское правительство, хотя их, конечно, было неизмеримо больше, чем, скажем, в англо-иранской нефтяной компании, застигнутой врасплох иранскими властями несколько лет спустя.
По мере увеличения трудностей и роста недовольства Мининдела довольное выражение стало исчезать с лица Красных. Расчеты Москвы на проникновение депутатов от Иранского Азербайджана в меджлис и на захват ими решающих позиций — не оправдались, и представители революционного Азербайджана, благодаря твердости депутатов центральных правительственных районов, оказались в изолированном положении.
Искусственно поднятая московской агентурой революционная волна сама собой спадала, а революционеры с катастрофической быстротой разлагались.
Однажды я получил задание выехать в город Ардебиль, чтобы установить причины задержки с вывозом зерна из этого богатого сельскохозяйственного района. Вместе со мной поехал сотрудник консульства М. проверить деятельность двух советских агентов, работавших в партийной организации ТУДЕ в Ардебиле.
Одной из значительных фигур в Ардебиле был также советский азербайджанец, майор государственной безопасности Бабаев. По приезде в Ардебиль, мы остановились в местной гостинице, куда зашел и Бабаев. В моем присутствии он сделал подробную информацию о партийных и экономических вопросах. Касаясь положения в партийной организации, он жаловался на местных партийцев и представителей из Баку. Из его слов вытекало, что экспроприация зажиточных групп населения себя исчерпала, что зачастую конфискованные ценности расхищаются. Бабаев привел пример: недавно у одного помещика реквизировали бриллианты, а через несколько дней он увидел их на любовнице одного из местных партийцев.
— Приходится заниматься и этими делами, — продолжал Бабаев, — вынужден был устроить у себя в кабинете люк, туда кое-кого упрятал навсегда, — хвастливо заявил он.
Я вгляделся в холеное, откормленное лицо этого человека. Пушистые усы делали его похожим на кота. В маленьких глазах не было и капли жалости или сомнения в своей абсолютной правоте.
Мой спутник поспешил перевести разговор на другую тему, сказав, что об упорядочении работы они поговорят позднее.
* * *
Четвертого апреля 1946 года Красных сообщил о подписании соглашения, заключенного между советским правительством и Ираном о создании Смешанного Совето-Иранского Акционерного Общества по разработке нефти в северном Иране, 51 % акций предоставлялось Советскому Союзу. Фактически это означало передачу СССР права концессии, прикрытой излюбленно Советами формой — смешанного общества. В руки Советскому Союзу переходила вся северная иранская нефть.
С иранской стороны соглашение подписал премьер Кавам ас-Салтане. В соглашении оговаривалось, что оно вступает в силу после ратификации меджлисом. Советское правительство, казалось, достигло этим договором своей главной цели — овладения северо-иранской нефтью. Но в этом соглашении оказалась весьма серьезная оговорка — утверждение меджлиса, что означало задержку немедленных практических действий советской стороны и не устраивало, ни консульство, ни Пешевари. Хитрый Кавам этой оговоркой выиграл время, что при общей политико-экономической ситуации не устраивало правителей Азербайджана.
Договор о создании смешанного общества так и не был ратифицирован меджлисом, а после вывода советских войск и выступления армии шаха в декабре 1946 года коммунистическая авантюра в Иранском Азербайджане лопнула.
* * *
Через несколько дней после подписания договора о нефти Красных получил из Москвы уведомление о выводе советских войск из Ирана и предложение предпринять соответствующие мероприятия с правительством Пешевари. Красных вызвал Пешевари к себе в кабинет и в присутствии работников консульства сообщил премьеру эту печальную для него новость. Одновременно Пешевари получил задание обеспечить вывоз в СССР двух тысяч тонн табаку и десяти тысяч тонн пшеницы.
Для выполнения этого срочного правительственного задания, которому придавалось особое значение, прибыл некий Агеев с полномочиями от Микояна. Консульство перестало напоминать штаб, руководящий революционной работой. Агеев поднял всех на ноги для быстрейшего выкачивания из северного Ирана табака и зерна. Собирались совещания, сыпались директивы, создавалась обычная советская шумиха, неизбежная при проведении таких экстренных, особых заданий.
Вскоре население Азербайджана с удовольствием наблюдало эвакуацию советских оккупационных войск. По дорогам Тавриза ползли гигантские КВ (Клим Ворошилов) с высоко поднятыми жерлами пушек, двигалась пехота на самоходах.
— Русские друзья уходят! — иронически говорили иранцы.
Работники правительства Пешевари приуныли. Переменился и тон советской пропаганды, говорили уже не о революции, а о выгодах экономического сближения с Советским Союзом.
* * *
На фоне мрачной «революционной» действительности Иранского Азербайджана промелькнул один инцидент, внесший некоторое оживление в тусклое бытие повседневного. На горизонте Тавриза появилась группа американцев.
С моим служащим, довольно общительным человеком, мы как-то зашли в фешенебельный ресторан Тавриза — «Хуршит». Мой спутник некий Виктор Михайлович Табаков — директор фиктивного акционерного общества, сокращенно именуемого «Ирансовтранс» (Ирано-советский транспорт). Табаков был старый коммунист, друг Калинина.
Во время ужина в ресторане, к нашему удивлению, зашла компания американцев из семи человек и среди них полковник американской службы в форме и с многочисленными ленточками наград на груди. Появление американцев в «демократическом» Тавризе уже само по себе необычное. Табаков потягивал рюмку за рюмкой и одновременно прислушивался к тому, о чем говорили между собой американцы. Надо сказать, что Табаков был по специальности химик и во время войны ездил в длительную командировку в США, где прилежно изучал английский язык и довольно прилично понимал его.
Началось с того, что американцы стали подшучивать над советским шампанским, которое они усердно пили. Советское шампанское не было «мягким» и уступало заграничным маркам. Американцы, громко смеясь, иронически восклицали, что они никогда в жизни не пили такого хорошего шампанского.
Потом они начали развлекаться игрой-пари. Ставили рядом два пустых стакана, клали в один стакан яйцо и, дуя в стакан, старались воздухом вытолкнуть его в другой стакан. Я сидел и с некоторой досадой думал о том, что жизнь в Америке легка и люди не ощущают ежечасно неусыпной «заботы» над собой партии и правительства. На Табакова это веселье произвело угнетающее впечатление, он краснел все больше и больше и с трудом сдерживал накипавшую злобу. Закончив развлекаться игрой, американцы на ломанном русском языке запели «Очи черные». Среди нестройного хора выделялся один голос, певший без всякого акцента. Потом американцы запели русский гимн «Боже, царя храни». Тут Табаков взорвался, он вскочил и с перекошенным от ненависти лицом завопил:
— Добро еще петь бы умели, а то лаете, как собаки! Молодой американец, сидевший до этого к нам спиной, обернулся и на чистом русском языке спокойно ответил:
— Если вы поете лучше, то спойте на этой вот эстраде, а мы вас с удовольствием послушаем, — и сделал жест в сторону эстрады.
Я с трудом усадил Табакова на место. Американец обернулся к своим и что-то сказал по-английски, очевидно, передав смысл выкрика Табакова.
Пожилой полковник возмутился и, обернувшись к нам, указал на ленточки наград на груди. Среди них оказалась и советская награда — орден, насколькопомню, Богдана Хмельницкого. Я счел нужным извиниться за Табакова, и, пожав руку полковнику, уговорил Табакова уйти из ресторана, а американцы продолжили веселиться. На другой день Табаков доложил Красных о случившемся, а главное, о появлении в Тавризе американцев. Позднее Табаков мне передал, что полковник оказался военным атташе из Тегерана, а хорошо говоривший по-русски — американец русского происхождения князем Гагариным.
Красных не удовлетворился докладом Табакова, вызвал и меня. Интересовался он не столько инцидентом, сколько тем, как вели себя американцы вообще в Тавризе и не слышал ли я что-либо о цели их приезда.
* * *
Анализируя теперь все события того времени, я прихожу к выводу, что в 1946 году советское правительство не намеривалось обострять отношения в Иране, рискуя возникновением конфликта с союзниками. Это сказывалось в директивах Министерства иностранных дел. Главное внимание обращалось на Китай, очевидно, до периода, пока Чан Кайши не будет окончательно сломлен и не восторжествует Мао Цзэдун. Ставка была сделана на то, что Пешевари и ТУДЕ найдут опору в широких кругах населения и что правительство шаха растеряется и в этом случае можно будет осуществить коммунистический переворот в Тегеране без прямого вмешательства советских войск. Этого не произошло. Все докладные записки, посылаемые консульством в Министерство иностранных дел СССР, не делая прямых выводов, рисовали неблагоприятную картину, из которой ясно, что армия правительства Пешевари, предоставленная своим собственным силам, столкновения с войсками шаха не выдержит.
Обращение правительства шаха с жалобой в Объединенные Нации в создавшихся условиях предрешило ход событий. Советскому Союзу выгоднее получить концессию на нефть от легального правительства и отложить политический захват северного Ирана на неопределенное время. Тем не менее, соглашаясь на вывод советских войск, Москва оговорила, что после их ухода в Азербайджане останется дружественное СССР правительство Пешевари.
В соглашении же о нефти обусловливалось, что ратификация не должна откладываться более, чем на семь месяцев, считая с марта 1946 года. В обоих этих пунктах правительство шаха сумело обыграть советскую дипломатию.
Все эти неудачи советской политики не мешали советским корреспондентам приезжать в Тавриз и писать бодрые, хвалебные статьи о деятельности дружественного правительства. Корреспонденты В. Медведев и Новохат-ный усиленно собирали пропагандный материал и, если бы можно было верить их корреспонденциям, то обстановка не предвещала столь быстрого и бесславного конца азербайджанской авантюры. Статьи обоих корреспондентов писались не только для Советского Союза, но и для иранской прессы — коммунистической и официально нейтральной. Во всяком случае, эти статьи пристраивались одним из «иранских друзей».
* * *
Ноябрьские торжества прошли в консульстве подавленно. Чувствовалась нависшая угроза. Красных заметно нервничал. Невольно вспоминаю неприятный эпизод, участником которого мне пришлось быть. К сожалению, эпизод этот характерен не только для этого случая.
Вечер 7 ноября был устроен в клубе советского консульства, где собралась почти вся советская колония. За ужином выпили, развеселились и стали танцевать. Душой вечера была Женя — молодая сотрудница консульства. Хорошенькая, веселая и остроумная, она много танцевала, танцевал с ней и я. В разгар вечера Женя куда-то исчезла. Я пошел ее искать, чтобы пригласить на очередной танец. В одной из комнат второго этажа я услышал голоса и вошел. Красных сидел на диване рядом с Женей. Возбужденный и, как обычно после выпивки, лиловато-красный, консул что-то говорил, близко наклонившись к молодой женщине. Когда я вошел, в глазах Жени блеснула радость. Красных осекся на полуслове и уставил на меня свои мутные глаза. Я хотел было извиниться и выйти, как Красных подчеркнуто внятно и раздельно изрек:
— А знаете ли вы, товарищ Васильев, что я имею право, любого и, в частности, вас, откомандировать на родину в течение 24 часов.
Я видел, как вспыхнула Женя, но сдержалась и посмотрела на меня, как бы прося не делать скандала.
— Я в курсе вашей компетентности, товарищ консул, — сухо ответил я, — но мне не совсем понятно, почему вы об этом вспомнили именно сейчас. И с этим я ушел. Вскоре в зале появилась и Женя, заметно расстроенная. Веселье скоро закончилось, и гости раньше обычного разошлись по домам.
Красных не откомандировал меня на родину, но наши отношения после этого вечера стали натянутыми.
* * *
Несмотря на нарастающую нервозность, в ноябре 1946 года в советском консульстве в Тавризе все же не ждали открытого выступления войск правительства шаха против правительства Пешевари. Но о подготовке к выступлению ходили слухи. Советских войск уже не было. Сразу встал вопрос, как на это будет реагировать Москва, введут ли их снова, пойдет ли Кремль на открытый международный конфликт? Консул не находил себе места, еще больше был встревожен Пешевари, и этому удивляться не приходилось: на карту у него поставлена не только карьера, но и жизнь. Советские посольские органы скептически смотрели на возможность сопротивления со стороны местных войск против правительственных войск шаха. Если бы армия Пешевари могла продержаться короткое время, ее можно было бы подкрепить «добровольцами» из советского Азербайджана и тогда борьба стала бы возможной. Но на стойкое сопротивление солдат Пешевари рассчитывать было нельзя. Эта точка зрения господствовала, и Кремль дал установку эвакуировать «своих людей» в Советский Союз.
В принятии этого решения, конечно, меньше всего учитывались интересы самих иранских азербайджанцев. Не их, в этом случае жалели, а считались с тем, что в создавшейся обстановке они сами не станут сражаться за правительство Пешевари и что более целесообразно спасти имеющиеся кадры от полного разгрома и сохранить их как резерв для будущего на территории СССР.
— Нам не удалось сколотить в Иранском Азербайджане сколь-нибудь крепкие партийные кадры, — констатировал генеральный консул Красных.
Решение об эвакуации застало приспешников Пешевари врасплох, началась страшная паника среди кадров агентуры обреченного правительства.
Директива Кремля гласила: «Бой с войсками шаха не принимать» и добавляла: «Все верных сторонников правительства Пешевари, которым угрожает расправа, перебросить в СССР через Джульфу Иранскую, где в течение трех дней будет «открытая граница», т. е. обеспеченный переход без соблюдения пограничных формальностей.
В течение нескольких дней, решившие бежать в СССР должны ликвидировать свои дела и выбраться за пределы Ирана. Большинство уезжающих знали о тяжелом продовольственном и материальном положении в СССР. Начались поспешные сборы. Транспорта не хватало. Люди бросали накопленное годами добро и устремлялись пешком на Джульфу. Успевшие реализовать имущество или нажиться на революции, по своей наивности скупали золото, думая обеспечить себе безбедную жизнь в СССР, но их надежда провести золото в Советский Союз оказалась иллюзией, прибывших на границу подвергли обыску и все ценности отобрали.
По данным консульства, через открытую границу в Джульфе Советской прошло в СССР свыше двадцати тысячи иранских азербайджанцев. Это были люди, активно поддерживающие режим Пешевари и не желавшие остаться на родине.
Почти через два года в кулуарах посольства СССР в Тегеране появилось полуофициальное сообщение, что Пешевари погиб где-то около Баку во время автомобильной катастрофы и с почестями похоронен в Баку. По этой же версии посольства, автомобильная катастрофа произошла преднамеренно (шофера напоили). Так бесславно закончился советский «революционный» эксперимент в Иранском Азербайджане.
Пожалуй, иранцы могли бы забыть об этом мрачном эксперименте, но посольство СССР в Иране этому препятствует: регулярно подпольная радиостанция приспешников Пешевари посылает угрозы в эфир: мы еще придем! Оправдаются ли эти угрозы — решат действия правительства Пешевари.
* * *
В дни бегства сторонников Пешевари советское консульство превратилось в крепость, готовую к длительной осаде. На крыше расставлены пулеметы, ворота забаррикадированы, группа ответственных работников день и ночь несет вооруженную охрану. Консулу Красных мерещится трагическая судьба Грибоедова.
В один из декабрьских вечеров войска шаха заняли город. Консульство напряженно ждало дальнейших событий. Боялись вооруженного налета, боялись, что толпа жителей города ворвется в Консульство. Этого не произошло, и в городе было подозрительно тихо. Обманутый этой тишиной, начальник транспортного отдела торговой миссии, некий Облов, вышел из здания Консульства, чтобы проведать семью на квартире, находившейся на расстоянии ста метров от Консульства. Не успел он отойти от Консульства, как на него напали несколько иранцев, он получил сокрушительный удар.
— За что? — только успел он выкрикнуть, как вместо ответа получил новый удар в переносицу, и неизвестные скрылись так же быстро, как и появились. Впоследствии оказалось, что Облова приняли за генерального консула Красных, на которого Облов несколько походил внешностью.
Через день работники Консульства могли наблюдать, как население с остервенением громило здания, занимаемые органами правительства Пешевари и ТУДЕ. Не успевшие бежать «демократы» пытались найти спасения от разъяренной толпы в помещении торговой миссии, но в этом случае миссия предпочла соблюдать нейтралитет и обманутым несчастным людям двери не открыла. Правда, консул воспользовался уважением иранцев к советскому лечебному учреждению и дал распоряжение директору больницы Самедову принять под видом больных пятнадцать таких, не успевших бежать «демократов».
Через несколько дней я узнал, что в больнице отлеживается сам начальник СМЕРШ войска Пешевари Бабаев. Мне стало любопытно увидеть этого человека в новых условиях. В палате № 24 я нашел испуганного человека, под фамилией Иванов. Отсутствие черных пушистых усов и робкий бегающий взгляд несколько изменили внешность, но Бабаев остался Бабаевым.
— Нужно скорее выбираться из проклятого Ирана, — сказал он моему спутнику.
Положение этого мнимого больного было не из приятных: многочисленные родственники погибших от руки СМЕРШ войск Пешевари, в случае обнаружения Бабаева, не замедлили бы с расправой. Позднее я случайно узнал характерный конец этой типичной для советской заграничной работы истории. Спустя две недели после этих событий генеральный консул Красных погрузил Бабаева во вместительный багажник своего автомобиля и под покровом дипломатической неприкосновенности государственного флата СССР, вывез его через Джульфу Советскую за пределы Ирана.
Корреспондент ТАСС Медведев позднее писал в журнале «Новое время» и проливал крокодиловы слезы над несчастными семьями демократов, оставшихся без мужей и отцов, и вынужденных собирать милостыню для своего пропитания. Кстати сказать, свою приверженность к демократии Медведев, под разными литературными псевдонимами, доказывал не только статьями в «Новом времени»: он был частым гостем у курдов. Пытался насаждать «демократию» среди этого воинственного народа.
* * *
Вскоре после восстановления законного порядка, в Тавриз приехал шах. Я наблюдал его въезд с балкона торговой миссии. Открытый автомобиль шаха медленно двигался, окруженный восторженной встречающей его толпой. Люди шли за автомобилем, держась за его борта. Многие становились на колени. Молодой шах, сидя в открытой машине, приветствовал население Тавриза. Радостными криками, подлинным ликованием встретило население своего шаха.
Это не было похоже на то, как премьер «демократического» правительства Пешевари приезжал крадучись, под охраной автоматов в консульство. Это не было также похоже на то, как по онемевшим мертвым улицам Москвы проносятся черные бронированные автомобили с кремлевскими владыками. Это было что-то совсем иное, настоящее, наивное и трогательное. В город, только что бывший в руках мятежников, шах въезжал так, как Сталин не посмел никогда въехать в принадлежащую ему четверть века Москву. Зрелище это меня поразило до глубины души.

Глава VIII
Политика насилия, подкупа и интриг
После окончания воины и вывода союзных войск из Ирана, экономическая жизнь страны стала входить в нормальное русло. Иранская валюта укрепилась и со стороны стран начало быстро возрастать снабжение.
Неудавшийся эксперимент с созданием марионеточного правительства Пешевари в Иранском Азербайджане и укрепление экономического положения создали новую, менее благоприятную обстановку в политической игре советского посольства в Иране.
Премьер Кавам ас-Салтане взялся энергично за расширение национально-демократического движения. Активизация этих политических групп, особенно в северных провинциях Ирана, — встревожила МИД СССР и посольство. Руководящие круги посольства почувствовали, что почва уходит у них из-под ног, что большие суммы, израсходованные на укрепление кадров ТУДЕ, не дали эффекта, а популярность идей дружбы с СССР катастрофически падает, невзирая на все новые дозы пропаганды и золота.
Практические мероприятия посольства в связи с этим получили новое направление — всяческие компрометации действий англичан и американцев в Иране и на разжигание националистических настроений среди фанатических кругов иранцев.
Борьба за нефть и овладение политическим господством в Иране вступила в новую фазу.
* * *
В 1947 году обстановка в посольстве была крайне напряженной. Созыв XV меджлиса, который должен, по договоренности Кавам ас-Салтане с послом Садчиковым, ратифицировать соглашение о создании смешанного советско-иранского нефтяного общества, затягивался. Лишившись основных рычагов давления — советских войск в Иране и заслона в виде марионеточного правительства Пешевари, — Садчикова поставили перед фактом, что взамен он имеет только бумажку, подписанную Кавам ас-Салтаном, а не реальный договор, подтвержденный меджлисом.
Настало время, когда Садчиков и Красных стали пожинать плоды своей беспринципной политики насилия и глумления над иранцами. Общественность Ирана, наученная горьким опытом истории отторжения северного Иранского Азербайджана, явно не верила посулам советского посольства и справедливо насторожилась, усматривая в нефтяной концессии скрытую форму советской экспансии.
Подобные соображения имели под собой веские основания. Советские органы в своей борьбе за получение права эксплуатации нефтеносных источников Ирана увязывали это с политическими акциями, рассчитывая, расширив свое экономическое влияние, подчинить в дальнейшем весь Иран своему политическому контролю, а практически — обеспечить непосредственный выход СССР к берегам Персидского залива.
В августе 1947 года Садчиков, по поручению МИД СССР, сделал прямой нажим на иранское правительство и в своей ноте выразил резкое недовольство задержкой ратификации договора об образовании русско-иранского общества по добыче нефти в северных провинциях Ирана. Эта нота являлась официальной стороной воздействия на иранское правительство. Основная паутина интриг, обещающих благоприятное решение меджлиса, плелась за кулисами. Была выдвинута в понимании Садчикова, основная артиллерия — деньги. Тезис Садчиков, что «деньги решают все» и что «в Иране можно купить любого деятеля, вопрос лишь в цене» — стал претворяться в жизнь с большой настойчивостью.
Нужно сказать, что финансовые операции были весьма упрощены наличием собственного банка в Иране «Русс-иранбанк», являющегося фактически личным кассиром посольства. В период войны и после ее окончания в «Русс-иранбанке» в Тегеране и в Индии Госбанком СССР были депонированы значительные суммы в золоте и иностранной валюте, о чем я писал выше, что облегчало «финансовую деятельность» посла Садчикова. Крупные суммы текли из касс банка по рекам и ручейкам, проложенным посольской агентурой. В иранской прессе замелькали статьи в пользу утверждения концессионного договора с СССР на разработку нефтеносных земель. Одновременно активизировалась и деятельность пограничных войск СССР на границах Ирана. В этой связи мне вспомнились прочитанные секретные документы в спецотделе консульства в Тавризе. Ночные дежурства в спецотделе консульства и посольства, возложенные в порядке служебной дисциплины на ответственных сотрудников (допущенных к совершенно секретной переписке, и на меня в том числе), были на редкость тягостными. Сидя всю ночь напролет, задыхаясь от затхлого воздуха спецотдела и вони сургучных испарений, ожидая какого-то возможного «вражеского налета иностранцев», — приходилось искать развлечения в чтении писем, бюллетеней и пр., проливающих свет на закулисные большевистские политические интриги. В одном из такие документов, еще в начале 1947 года, я прочитал любопытное признание посольства, адресованное МИД СССР о том, что для «воспитания благоприятных для СССР настроений в некоторых иранских кругах необходимо активизировать деятельность воинских частей на границах СССР с Ираном». Требования эти исходили от посольства и увязывались с мероприятиями военного атташе в Иране, Министерством иностранных дел и военного ведомства СССР.
Весной и осенью 1947 года и позднее произошли пограничные инциденты и демонстрации. В один из ясных солнечных дней на реке Араке — около Джульфы, советская пограничная полоса покрылась густой дымовой завесой. Когда завеса рассеялась, перед глазами иранских пограничников стало разворачиваться на советской стороне большое танковое соединение, готовое к атаке. Поднялась паника, кое-то из военных предпочел ретироваться вглубь Иранского Азербайджана. В Тавриз бежали, как это говорили в консульстве, несколько офицеров иранских пограничных войск, сообщившие панические вести о том, что Советы намериваются снова оккупировать Иранский Азербайджан. В консульстве радовались и хохотали, забыв про собственный недавний страх в период ухода войск Пешевари.
Нападения на иранскую территорию так и не произошло, Советы ограничились демонстрацией. В дальнейшем произошло множество инцидентов, вызванных вторжением советских пограничников на иранскую территорию.
В посольстве воспрянули духом, готовясь пожинать плоды своих успехов, а кое-кто стал посматривать на лацкан пиджака, ожидая правительственных наград. Все надежды посольства совершенно неожиданно рухнули.
В сентябре 1947 года американский посол в Тегеране Аллен сделал иранскому правительству официальное заявление о поддержке Соединенными Штатами Америки иранского правительства — «в случае, если оно (правительство) пожелает отвергнуть предложение какой-либо иностранной державы, наносящее ущерб иранскому суверенитету».
Заявление Аллена вызвало в кругах советского посольства полное смятение. Все был поглощены мероприятиями по вербовке отдельных членов меджлиса для обеспечения большинства при голосовании закона о советско-иранской нефти. Сразу встал вопрос, как будут реагировать иранцы на заявление американского посла. Надо отдать должное выдержке, проявленной иранской общественностью, — меджлис XV созыва (в октябре 1947 г.) так и не утвердил договора по созданию советско-иранского смешанного нефтяного общества.
Садчиков пришел в неописуемое бешенство. Все расчеты на награды провалились, а затрата больших денежных сумм оказалась напрасной. Заверения Кремля, что концессия будет утверждена и что на этой основе будет создана нужная политическая ситуация, — в Иране, не оправдались.
Двадцатого ноября 1947 года Садчиков вновь передал иранскому правительству ноту, в которой констатировал, что «иранское правительство вероломно нарушило взятые на себя обязательства». Никаких реальных последствий нота Садчикова уже не имела. Не решаясь выступить с военной интервенцией, советское правительство вынуждено было временно примириться с неудачей, постигшей Садчикова в его интриганской политике в Иране.
Общественность Ирана повернула политический руль в другую сторону.
В посольстве началась перестройка работы, стали говорить об ориентации на националистические круги, о необходимости, во что бы то ни стало, ослабить контракт Ирана с западными странами, воспрепятствовать осуществлению проекта семилетнего плана и «вышибить англичан с их иранского нефтяного седла». На устах посольских работников появились имена таких иранских деятелей, как Маки и Багаи. Драка между этими делегатами в 1949 году вызвала взрыв восторга у посольских работников, а депутат Маки был взят на учет, как основная фигура, пригодная для осуществления замыслов посольства.
* * *
Декларированные договорам 1921 года между СССР и Ираном дружеские отношения Советский Союз на практике не осуществлял, а статья договора, запрещающая иранскому правительству привлекать иностранный капитал к участию в разработке природных ресурсов Северного Ирана, создала условия консервации экономического развития северных провинций. За весь период существования Советской власти, после заключения договора, ВКП(б) своей политикой стремилась подорвать социально-политические устои в Иране. Поэтому практическая деятельность «великого соседа» в Иране не принесла иранцам ничего конструктивно положительного. Статья же договора (1921 г.), предоставляющая право ввода советских войск в Иран, в случае «возникновения особых условий», повисла над иранцами грозовой тучей страха, как бы «великий сосед» не вздумал осуществить это свое «право». По существу Ленин, своим жестом со списанием задолженности Ирана царскому правительству (67 млн руб.) не «облагодетельствовал» Иран, а зажал его договором 1921 года в тиски далеко идущих захватнических вожделений.
Договор этот фактически заложил фундамент всей последующей политике советских органов в Иране, включающей и такие действия, как подлог, взятки и темные интриги.
Вся эта деятельность с полной очевидностью вскрыла всю несостоятельность и лживость пропагандных утверждений о желании «оказать помощь отсталым народам Востока».
* * *
Восточное купечество, в частности, иранское, до Октябрьского переворота в России вело оживленный товарообмен с Россией, а иранские купцы были частыми гостями на Нижегородской ярмарке и в Баку.
Монополия внешней торговли СССР в руках государства встретила недружелюбное отношение со стороны общественности Ирана еще в период заключения договора (1921 г.). Впоследствии хищническая торговая политика СССР на сырьевом и промышленном рынках Ирана привела к сужению товарооборота, не превышавшего в лучшие годы одной четверти товарооборота дореволюционной России.
Во время войны с Германией торговые отношения несколько оживились, но после ее окончания быстро пошли на убыль. Все попытки Ирана установить добрососедские торговые отношения закончились неудачей, и торговый договор СССР с Ираном в 1948 году возобновлен не был. Основную роль в этом сыграла политика СССР, отталкивающая иранскую общественность от сближения.
В довоенный и послевоенный периоды советское правительство и его торговые представительные органы в Иране интересовались не столько развитием торговли и укреплением экономики Ирана, сколько подрывом благосостояния страны и организацией политической смуты.
Наиболее удачным способом для разрешения этой задачи была признана форма акционерных обществ. Акционерными эти общества были только по названию. Иранский капитал в них не участвовал, и эти общества выполняли хозяйственные и политические задания Москвы, не контролируемые в своей деятельности иранскими организациями. Во время войны с Германией основным, по своему значению, являлось Акционерное общество Ирансовтранс в Иране, осуществлявшее переброску американских грузов ленд-лиза и спекуляцию на этих товарах. В послевоенный период интересы советской стороны сосредотачивались на работе Акционерного общества Иранрыба и акционерного банка Руссиранбанк. Деятельность этих двух фиктивно акционерных обществ мало чем отличалась от описанной выше спекулятивной деятельности Ирансов-транса. Во главе Акционерного общества Иранрыба стоял представитель СССР, некто Помельцов, напоминавший по своей внешности торговца сельдями царской России. Маленький, полный, с походкой добродушного медведя, По-мельцев был опытным и хитрым пройдохой. В узком кругу работников торговой миссии как-то на докладе у торгового представителя он, прищурив свои заплывшие хитрые глазки и посмеиваясь, он с хрипотцой докладывал о своих достижениях.
— Ну что ж, — говорил Помельцов, — дела наши не плохи: добыли икорки и отправили около трехсот тонн, а показали полтораста, а икорка-то в Америке по 25 дол-ларчиков килограмм.
И дела Помельцева были, с советской точки зрения, действительно не плохи. Используя монополию и сдачу всего улова рыбы, Главрыбсбыту по монопольно низким ценам, Иранрыба фактически оправдывала все производственные расходы за счет реализации одной икры, а несколько десятков тысяч тонн рыбы доставались СССР безвозмездно. Манипулируя на ценах, советская сторона имела возможность не показывать истинного размера доходов, чем, естественно, наносила ущерб интересам Ирана — пайщика этого общества по участию в прибылях. Эта хищническая политика по отношению к Ирану проявлялась во всех действиях советских органов. Довольно показательным в этом отношении является деятельность Акционерного Русско-Иранского банка.
По распоряжению московских органов, я был введен в состав ревизионной комиссии банка и в 1949 году мне поручили ревизию его деятельности. Отчет за 1948 год, по указанию Госбанка СССР и МИД, был составлен фиктивный, с тем, чтобы скрыть от иранского правительства доходы и избежать обложения налогами. Вуалирование баланса сделано довольно примитивно: на счет советского отделения Госстраха в Тегеране, по договоренности с последним, обменявшись письмами, списали прибыли. Частично прибыли также списали по фиктивным документам, как якобы произведенные расходы по отправке в СССР ряда работников банка.
Состав собрания акционеров-держателей акций банка — весьма характерен: консул Аганесян — от советского посольства; советский директор русско-иранского акционерного общества Иранрыба Помельцов; директор акционерного общества Межкнига в Иране и Союзэкспортфильм Ищенко; управляющий фиктивным акционерным обществом Ирансовтранс Кулиджанов; управляющий фиктивным акционерным обществом Ирансовнефть Кондрашов; управляющий отделением советского Госстраха в Иране Бахтиаров (участник уголовных манипуляций с отчетом банка) и, наконец, счетовод Руссиранбанка Симани, представляющий иранскую сторону, так как на его имя условно были записаны несколько акций банка. При таком составе все «собрание акционеров» превратилось в глупейшую комедию, когда взрослые люди делали вид, что разрешают весьма серьезное дело, а в действительности занимались обкрадыванием Иранской казны. После окончания «собрания акционеров» управляющий банком Украинцев пригласил всех присутствующих на банкет. Стол, накрытый в соседнем зале, ломился от яств и выпивки. Подавали жены МГБистов из комендантской охраны посольства.
Федор Иванович Украинцев произнес речь на тему о том, что в этом году, благодаря сложившимся обстоятельствам, банк имеет дефицит, но мы надеемся, что в будущем году операции разовьются и дела банка улучшатся.
Христик подмигнул выразительно и наставительно заметил:
— Надо работать лучше.
После этого счетоводу Симани дали выпить подряд несколько рюмок водки и через двадцать минут ему ничего не оставалось делать, как поскорее уйти с банкета.
— Теперь все свои! — радостно воскликнул генеральный консул Христик. Жены МГБистов тут же сняли передники и сели за стол вместе с почетными акционерами. Захмелевший Украинцев наклонился к Христику и сказал через стол, радостно ухмыляясь:
— А все-таки год мы закончили с неплохим доходцем! Христик одобрительно засмеялся. Кутеж продолжался до глубокой ночи.
Когда позднее в банк пришли чиновники Министерства финансов Ирана поинтересоваться документами, в ход было пущено уже не раз проверенное средство — конверты с вложенными в них туманами. Покладистые чиновники не стали копаться в документах и проверять степень реальности показанных убытков. Ведь банк же государственный и за его спиной стоит СССР!
Подлог и взятки стали неотъемлемой частью деятельности посольства СССР в Иране. В 1949 году иранское Министерство финансов получило достоверные сведения о том, что советские организации в Иране в 1944–1946 годах в широких масштабах вели коммерческие операции с грузами ленд-лиза. Министр финансов Ирана предъявил требование об уплате налогов по этим операциям. В Москву полетели радиограммы с запросами, — как поступить с иранцами, которые пронюхали об операциях Краснова.
В Москве встревожились. Вмешались лично Микоян и Вышинский. Радированное распоряжение предлагало не допускать иранцев к проверке документов. Посол Садчиков, получив директивы высокого начальства, вызвал к себе торгпреда Алексеева, меня и управляющего Ирансов-транс Кулиджанова. Лицо Садчикова — холодно и неприветливо, лысина поблескивала особенно ярко, а впалые глаза смотрели сурово.
— Коммерческие операции с ленд-лизом не должны быть вскрыты, — заявил Садчиков. — Это грозит международным скандалом. Примите меры к тому, чтобы иранцы были удовлетворены, и Министерство финансов не требовало документов. Вы должны понять ответственность поручения, — подчеркнул Садчиков, многозначительно взглянув на Алексеева. Я вышел от него с чувством, точно меня пригвоздили к позорному столбу. Мне было больно и стыдно, что мою страну представляют люди типа Садчикова и ему подобные.
Директива Садчикова начала претворяться в жизнь. Вновь на сцене появились конверты с вложенными в них туманами, а также хрустальные вазы, присланные из Москвы для «специальных целей». Чиновники Министерства финансов Ирана после этого перестали интересоваться доходами от операций с ленд-лизовскими грузами.
* * *
Советские органы успешно продолжали свою практику спекуляции. Отказ иранского правительства возобновить торговый договор СССР привел торгпредство к поискам выхода в спекуляцию с сахаром.
Используя благоприятную конъюнктуру на рынке, советская торговая миссия поручила скупить сахар, а когда цены резко поднялись, сахар реализовали. Эта спекуляция имела к тому же еще ту выгодную для советской пропаганды сторону, что перебои с сахаром вызвали недовольство населения. Спекуляция была осуществлена с помощью «либералов» и «своих людей».
Спекулятивные операции, взятки и подлог вошли в практику оперативной работы представительных органов СССР, и это не носило случайного характера, а вытекало из распоряжений Министерства внешней торговли и Министерства иностранных дел. Министерствами были определены задачи в той плоскости, чтобы с наименьшими материальными затратами добиться в этой стране максимальных успехов в политических и экономических мероприятиях. Взятки, списываемые в порядке секретного актирования, проводились только после согласования с послом, а в наиболее щекотливых случаях — по согласованию с министерствами. Выдаче взяток советскими органами придавалось как политическое, так и экономическое значение, основанное на концепции: «Врага нужно разложить, а человек, получивший взятку, становится в дальнейшем раболепным исполнителем нашей воли, обязанным компенсировать взятку своими услугами в политической или экономической сфере деятельности».
В этом же плане — окупаемости подрывных мероприятий — министерствами предусматривалось создание постоянных источников поступления валюты данной страны, путем негласного участия (через подставных лиц — иностранных поданных) в различных доходных предприятиях капиталами СССР.
Министерства особенно акцентировали внимание на этой стороне деятельности посольства и торговой миссии, считая что это открывает большие возможности в смысле увеличения влияния на экономику и политику страны. В оценке московских органов опыт с созданием в Иране фиктивных акционерных обществ и собственного банка признали успешным. Показательно, что советская миссия, выезжавшая в Пакистан в 1949 году, пришла к выводу, что в Индии должны быть применены методы, практиковавшиеся в Иране. Один из ответственных работников торговой миссии в Иране получил задание выехать в Индию для изучения политико-экономической обстановки в Дели и Карачи. В данном случае считалось более «удобным» получить въездную визу в Индию через иранские органы. Командированный Н. получил специальное задание подобрать агентуру для развертывания экономической и подрывной работы в Индии.
Советская миссия пришла к выводам о целесообразности создания в Индии сети банковских контор с закамуфлированной агентурой, подобно фиктивно-акционерному банку в Иране. Фондами золота и драгоценностей в Индии для этого начинания Москва располагала. Министерство внешней торговли заставляло принимать подобные методы экономической работы на Востоке не случайно. Переключение основных материальных и людских ресурсов СССР на вооружение привело к кризисному состоянию со снабжением населения товарами широкого потребления и продовольствия. В этих условиях снабжения рынков восточных стран товарами первой необходимости привело бы к углублению кризиса внутри СССР. Поэтому продажа ста тысяч тонн пшеницы Ирану в 1949 году рассматривалась, как чрезвычайная мера, необходимая по политическим соображениям и в целях получения английской стерлинговой валюты, как это предусматривали условия сделки. Характерно, что и в этом случае Министерство внешней торговли продиктовало обязательное заключение сделки через определенное лицо, связанное с иранским правительством. Сделка была завершена успешно и посольские работники радовались, утверждая: «теперь старая лиса Саед (премьер-министр Ирана в 1949 г.) у нас в руках».
По утверждению торгпреда Алексеева, «комиссионное» вознаграждение по этой сделке выплатили в непомерно высоком размере — свыше 250 тысяч долларов.
* * *
Посольство и торговая миссия последовательно проводили мероприятия, способствующие созданию определенного круга лиц, «весьма положительно настроенных» к политике СССР.
На фоне состоятельных либеральных кругов Ирана весьма заметной личностью являлся некий делец-финансист. По версии посольства этот крупный финансист прибыл из Германии в 1930-х годах и привез оттуда мелиоративные машины, при помощи которых собирался осушить провинцию Мазандаран. Иранцы будто бы погубили это полезное для Ирана начинание, реквизировав машины и разорив самоотверженного предпринимателя. После разорения он якобы занялся крупными торговыми операциями и вновь разбогател. Позднее эти операции снова разорили выдающегося коммерсанта. В мое время этот делец был уже крупнейшим собственником пивоваренных заводов в Иране, миллионером и акционером, как это утверждали посольские работники, авиационных кампаний.
Финансист находился в большой личной дружбе с советским послом и консулом, однако избегал появляться в посольстве и, как купец, «не интересующийся политикой», посещал только торгпредство, где и встречался с Садчико-вым и Аганесяном.
«Либеральный делец» был не только упорен в достижении своих деловых начинаний, но и «благочестив». В память своей умершей матери он построил армяно-грегорианскую церковь в Тегеране, где служили священники, приезжающие из СССР по назначению из армянского католикоса.
Посольство весьма интересовалось деятельностью армянской церкви. Консул в Тегеране Аганесян встречался со священником армянской церкви в Тегеране Барояном (однофамилец бывшего директора советской больницы в Тегеране). Свидания происходили в здании торгпредства при участии видных ираноподданных армян. Вместе с Аганесяном и армянским священником дела церковной паствы обсуждал и советник посольства Курышев. Аганесян и Курышев беседовали со священником не о спасении душ паствы. В секретном бюллетене посольства помещалась информация с выдержками из доклада армянского священника о политических настроениях среди дашнаков
[10] в Иране.
Финансист был женат на русской и жил в большом особняке на одной из центральных улиц Тегерана. Приемы в его доме для Садчикова и узкого круга посольских работников славились роскошью, французские вина, обмениваемые им у Садчикова на кавказские, не могли не радовать посла.
«Финансист-либерал» возглавлял вместе с тавриз-ским видным купцом — владельцем гаражей — мероприятия по репатриации армян в Советский Союз. Армяне ехали через Иран из других стран Ближнего Востока. Советское правительство было заинтересовано в репатриации главным образом богатых армян и способствовало их выезду в первую очередь. Армянские собственники ехали на своих автомашинах, нагруженных всевозможными товарами и имуществом. Эти наивные люди предполагали открыть свои магазины и транспортные конторы в Советском Союзе. Иранские армяне оказывали своим репатриируемым соотечественникам всевозможную помощь для скорейшего их выезда в СССР. Мне горько было смотреть на репатриантов. Какая судьба ждала их в Советском Союзе! После отъезда этих несчастных, из-за «железного занавеса» стали просачиваться тревожные сведения. Портреты Сталина и красные флаги, которыми были украшены автомобили репатриантов, им не помогли, и они потеряли все свое имущество. Многие, по слухам, кончили жизнь самоубийством, бросившись в родной Араке.
Советская власть мало интересовалась репатриантами армянами-бедняками. Вначале 1946 года, в самый разгар репатриационной горячки, жители одного бедного села в провинции Исфаган продали землю и все свое имущество, чтобы выехать в Армению; дело с их переселением тянулось долго и крестьяне все в СССР выехать не смогли.
Подобно «финансисту», в области некоторых экономических мероприятий, на поприще кинопропаганды в Иране, немаловажную роль играл некий купец, иранский подданный, считавшийся в аппарате посольства своим человеком. Бежал из СССР в 1920-х годах. По версии советского посольства, сумел при бегстве перенести через границу несколько копий кинокартин и, удачно демонстрируя их в кинотеатрах, составил себе первоначальный капитал, который затем увеличил. По странной случайности, купец, несмотря на свое бегство из СССР, установил весьма близкие отношения с официальными советскими представителями в Иране. С директором Союзэкспортфильма и Международной книги Ищенко купец постоянно имел тесный контакт, а в своем кинотеатре охотно демонстрировал советские пропагандные фильмы. Тавризский кинотеатр, как говорил Ищенко, обошелся владельцу в 500 000 туманов.
Под политическим контролем советского посольства в Иране было несколько кинотеатров. Кинотеатр «Маяк» в Тегеране принадлежал Советам частично. После смерти одного из владельцев кинотеатра право на наследство в порядке родства должно перейти к какому-то советскому подданному, вместо законного наследника из СССР приехал некий работник МГБ Курышев и стал одним из членов администрации кинотеатра.
* * *
Четвертого февраля 1949 года на шаха Ирана произошло покушение, по официальной версии, покушавшийся — религиозный фанатик. Во время посещения шахом одной из тегеранских школ, террорист сделал несколько выстрелов и, ранив шаха, был убит на месте охраной шаха.
Этому событию предшествовали некоторые действия советского посольства.
В январе 1949 года Ищенко — директор Международной книги в Иране получил от посольства особое задание — распространить среди иранцев бесплатно большое количество пропагандной литературы на иранском языке. Для осуществления этой операции ТУДЕ выделило кадры распространителей. Распространению литературы придавалось необычное большое значение и рассматривалось, как особо важное мероприятие. В день покушения ТУДЕ сосредоточило партийные кадры в окрестностях Тегерана, что стало известно посольству.
В конце января, на одном из политических занятий, ответственный работник посольства заявил: «В ближайшее время мы ожидаем крупных политических событий в Иране». Вечером 3 февраля все ответственные работники получили задание на другой день — 4 февраля быть в помещении посольства к 9-ти часам утра. В здании посольства в это утро было необычно много народа. Никто не знал, что именно произошло, и зачем их вызвали. После трех часов ожидания в приемную вошел один из работников посольства и объявил, что только что произошло покушение на шаха. Вскоре Садчиков вышел из своего кабинета. Лицо посла было искажено, когда он бросил сопровождавшему его чиновнику довольно загадочную фразу: «Что можно ожидать от этих идиотов?».
Узнав через некоторое время, кто был покушавшийся, я невольно вспомнил религиозную процессию «Шахсей-Вахсей» в Миане.
Отказ иранского правительства возобновить торговый договор и меджлиса утвердить соглашение на концессионную разработку нефти, наложило свой отпечаток на жизнь членов советской колонии.
Узкие личные выгоды стали еще более проявляться и доминировать в жизни советских людей. Многие получили отпуска для поездки в СССР, отвозили разрешенную норму — платья, обуви и — вне нормы предметы роскоши: ковры, серебро, меха — и снова возвращались в Иран, чтобы снова набивать чемоданы. Люди покрылись плесенью своих корыстных интересов, а жизнь стала напоминать застойное, засасывающее болото. Микоян дал установку — «продержаться до ожидаемого наступления лучших дней». Эта установка «продержаться» и стала во всем преобладать. Люди «держались» за свои места и высокие оклады, превышающие по товарному индексу в 12–15 раз оклады равнозначных работников СССР. «Держались» и плели интриги, оправдывающие получение высоких окладов. Люди жили на валюту, обмениваемую на золото, добываемое заключенными в лагерях.
Но эта «проблема» и подобные ей никого не интересовала. Пример подавал и сам посол Садчиков. Ежегодно его молодая (вторая) жена совершала «рейд» в СССР, сопровождаемая до границы грузовиком, забитым сундуками с мехами, коврами и прочими дарами «нищего» Ирана. ЛюдмилаКонстантиновна — так звали жену посла — деятельно помогала своему супругу в накоплениях, работала в Русиранбанке кассиром и добавляла свой оклад к и без того баснословному высокому денежному содержанию своего мужа.
Все это не мешало партийному руководству проявлять большую политическую «бдительность» и систематически повышать «идейный уровень», изучая «директивы партии правительства» и труды «классиков марксизма-ленинизма». В силу специфических условий работы за границей, изучение, названное «политическими занятиями», носило строго конфиденциальный характер, распространялось на всех ответственных работников и проводилось еженедельно по пятницам. В конце рабочего дня секретарь партийной организации — А. Молокин — заходил ко мне в кабинет и приглушенным голосом многозначительно заявлял:
— Сегодня политзанятия, присутствие обязательно.
Слегка косящие глаза Молокина смотрели из-за пенсне пытливо, когда он спрашивал:
— Надеюсь, подготовились к теме?
Вступив в партию во время войны, Молокин «наживал» политический капитал и на каждом политзанятии старался доказать свою высокую политическую подготовленность, не имея эрудиции, он ограничивался чтением длинных цитат из произведений Ленина и Сталина. Подобный метод упрощал задачу «руководства» политзанятиями для этого партийного «мыслителя».
На одном из таких занятий обсуждалась тема о советских финансах в послевоенный период. Докладчик основную часть времени уделили теоретическим проблемам и, цитируя Маркса-Ленина-Сталина, вдохновенно доказывал великое значение денег в условиях «победившего социализма».
— Советские деньги — это особые деньги. Мы устанавливаем в основном цены на хлеб, — цитировал докладчик, высказывания Сталина.
Прошел час, время доклада истекло, шестидесятиградусная жара и духота в помещении утомили, все вытирали с лиц стекающий ручейками пот. Цифровые данные и сопоставления, приведенные докладчиком, были весьма убедительны. Сохранив расчетные цены с Военным ведомством на довоенном уровне, партия увеличила ассигнования на военные цели по сравнению с 1940 годом на 50 %.
Из доклада явствовало, что советское правительство не рассчитывает на возможность длительного мира и активно готовится к войне. Бюджетная политика лишь подтверждала большевистскую концепцию, что вторую мировую войну развязало Мюнхенское соглашение, отсюда «диалектически» делался вывод, что захват СССР Восточной Европы и Китая неизбежно должен привести к Третьей мировой войне.
Небезынтересными были приведенные докладчиком аналитические сопоставления с ассигнованиями на вооружения других стран и товарного индекса рубля Военного ведомства СССР по отношению к валюте других стран. Эти сопоставления с очевидностью доказывали, что затраты СССР на военные цели по их материальному объему в несколько раз превышают затраты Америки, Англии и Франции вместе взятых.
Утомленные полуторачасовым докладом, участники политзанятий разошлись по домам, уверенные в несокрушимой военной мощи СССР и в наступлении в ближайшем будущем часа, когда восторжествует мировое господство коммунизма…
После занятий, по случаю получения общественной нагрузки, он стал председателем местного комитета, — корреспондент ТАСС при посольстве Медведев пригласил на преферанс и ужин.
Уполторгпред Науменко, директор Госстраха Бахтияров и я приняли приглашение и составили пульку. Заносчивый, с большим апломбом, пользующийся личным распоряжением посла, Медведев и в карточной игре оказался неприятным партнером. Как это водится, за стаканом вина возникли непредвиденные темы разговора. Медведев, со свойственной ему развязанностью, повествуя о своих успехах в области размещения подрывных статей в иранской прессе, перешел на личные воспоминания:
— Когда у меня был тяжело болен ребенок, я невольно поддался настояниям жены и молил Бога спасти ему жизнь, — заявил Медведев.
Бахтияров и Науменко, неожиданно для меня, очень дружно его поддержали и рассказали о случаях оправдывающих их религиозные чувства в трудную минуту жизни.
Как это люди, подумал я, преследуя религию, могут со спокойной совестью обосновывать естественность проявления своих устремлений к Богу?
— Мне не совсем понятны ваши концепции, — сказал я. Как же можно, отрицая веру в Бога, преследуя религию, в трудную минуту обращаться к Богу за поддержкой? Зачем было тогда разрушать тысячи церквей и уничтожать десятки тысяч священнослужителей?
Мои собеседники пришли в негодование. Осыпая меня упреками, они доказывали с яростью свою правоту. Стоило известного труда себя сдержать и напомнить им некоторые практические действия в Иране, отнюдь не совпадающие с их «религиозным» мировоззрением.
Пулька закончилась, а с ней и одна из пятниц иранской жизни…
* * *
Как обычно, наступление новой, 33-й годовщины «Великой Октябрьской революции» отпраздновали в ноябре 1949 года посольством в Тегеране пышно и торжественно.
В этом году званых гостей встречал поверенный в делах Алиев. Посол Садчиков выехал в Москву за получением директив о дальнейшем направлении советской политики в Иране.
Роскошный парк, окружающий посольство был залит электрическим светом. По большому пруду, как всегда, плавали лебеди, а маленький бронзовый бюст Грибоедова перед зданием посольства молчаливо созерцал подъезжающих в комфортабельных «Кадиллаках» гостей.
Маленький, полный Алиев со своей супругой стоял при входе в зал, пожимал руки прибывающим гостям и приветливо улыбался. Поодаль вновь назначенный военный атташе полковник Родионов любезно изъяснялся с военными представителями США и Англии в Иране. Один из работников посольства, уже сильно подвыпивший, указал на иранского полковника с аксельбантами, адъютанта шаха:
— Вот таких надо уничтожить в первую очередь…
Я вгляделся в мужественное лицо иранца…
Посольство сохраняло традиции старой русской знати и несколько столов, размещенных в соседних залах, ломились под тяжестью всевозможных закусок и вин. В прошлом один из секретарей Центрального комитета коммунистической партии Азербайджанской ССР, Алиев прекрасно справлялся с обязанностями гостеприимного хлебосольного хозяина. Гости были в умиротворенном настроении, а иранские корреспонденты поместили на следующий день восторженные отзывы о приеме в советском посольстве. В общем, все как обычно: охрана спецчасти усилена, а в коридоре перед дверями этого «святая святых» посольства бессменно дежурили работники МГБ.
Ужин и тосты закончились. Захмелевшие гости начали разъезжаться. Только «бедные родственники», представители сателлитов СССР (поляки, румыны и чехи) — продолжали уничтожать обильные яства. Ко мне подошел атташе по хозяйственной части Федоров и зашептал на ухо:
— Пройдите в заднюю комнату, сделайте вид, что уходите, а то этих дармоедов иначе не выживем.
В зале погасили половину огней. Оркестранты пошли ужинать, смущенные сателлиты поняли «тонкий намек» и стали поспешно расходиться. Маневр удался.
Остались только свои. Снова вспыхнули огни, загремел оркестр, закачались пары танцующих. Услужливые кавказцы угощают Алиева Лезгинкой. Плывет по залу Яша Кулинджанов с хорошенькой женой консула. Алиев притоптывает в такт музыке. Пара выбилась из сил, но Алиев требует, и пара снова скользит по паркету.
Стол заново сервирован закусками и винами. Я пью прозрачное, душистое кавказское вино. На душе пусто. В уме проходят картины прожитой жизни: детство, родные, революция, студенческие годы, горение, желание бороться и строить новую жизнь…
А потом… вечная ложь и фальшь окружающего в течение 25 лет трудовой советской жизни, смерть десятков близких людей, уничтоженных во имя самосохранения безжалостной машиной диктатуры.
Сколько преждевременно ушло из жизни ценных, полезных людей! Перед глазами встают тени Гумилева, Ксан-дрова, Покровского, Файзуллы Ходжаева и многих десятков других знакомых и миллионы погибших неизвестных русских людей. Что это, жертвы «великого эксперимента» или жертвы гниющей на корню античеловеческой государственной системы насилия, построившей свою жизнь на костях миллионов людей, сжигающих их для поддержания пара в дырявом, проржавевшем котле?
Капля за каплей чаша моей жизни наполнялась ядом бессмысленной лжи и сознанием порочности всего социально-экономического уклада. Иранская «капля» эту чащу переполнила.
— Не могу! — вырвалось у меня.
— Что вы не можете? — спросил сосед за столом и с удивлением на меня посмотрел.
— Не могу больше пить это вино, — ответил я и вышел…
* * *
Советская политика в Иране еще более отчетливо показала мне всю лживую и гнилую сущность советской гос-капиталистической системы.
Здесь меня окружили люди, как будто вырванные из уголовного паноптикума — международные авантюристы, стремившиеся только к личной наживе через служение международным заговорщикам, засевшим в Кремле. Для этого они шли на мелкие и крупные подлости, для этого они готовили иранскому народу судьбу закабаленного русского народа.
Глядя на работников посольства и советских учреждений в Иране, я с ужасом думал, что эти безыдейные карьеристы в глазах иранского народа все-таки представляют Россию, что подобные же, как и в маленьком Иране, действия практикуются большевиками — очевидно, в еще больших масштабах — и в других странах.
Если советская политика в Иране внушала отвращение, то советские победы в Китае внушали опасения за будущее. В начале 1949 года генерал Фу Дзо-Ли сдался красным в Пекине с миллионной армией, позднее войска Мао перешли Янцзы, а в мае пал Шанхай. В честь взятия Шанхая в посольстве устроили банкет, в речах говорилось, что сегодня поставленный Лениным вопрос — Кто кого? — решен историей — 450-миллионный Китай стал коммунистическим и весь мир будет повернут на победный путь Ленина-Сталина.
Речь стала идти не о судьбе отдельных народов, а о судьбе всего мира.
Когда на родине я участвовал в строительстве, несмотря на все репрессии, душившие живую инициативу, я все-таки считал, что приношу своему народу пользу, работаю для него. Среди окружающих были друзья, были думавшие и чувствовавшие, как я, была масса людей высокопорядочных и самоотверженных. Власть изменится — народ будет жить, — думал я.
Разрушить свою жизнь, отказаться от близких, друзей, от родины, от налаженной жизни и материальной обеспеченности…
А взамен? Одно сознание своей правоты и моральной обязанности так поступить?!
Может быть, мне даже не удастся попасть в свободный мир… К этим вопросам я неоднократно возвращался. Я уже считал своей моральной обязанностью порвать с большевизмом!
* * *
Однажды, декабрьским пасмурным утром, я взял портфель со сменой белья и, вместо того, чтобы пойти на работу, ушел в новый неведомый мне мир…
Заварзин Павел Павлович
РАБОТА ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ
Спецоперации, методы вербовки, тактика борьбы, проведение оперативноразыскной работы царской охранки
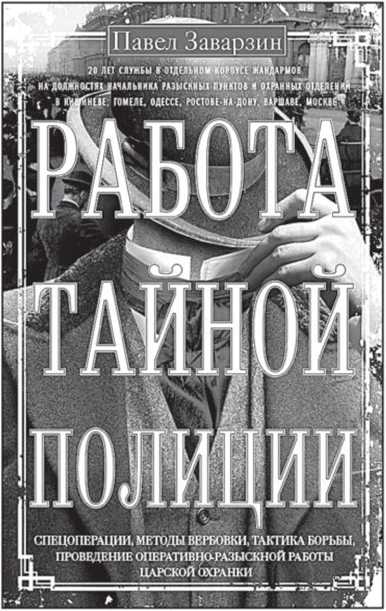
Павел Павлович Заварзин — российский жандармский офицер, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов. Книга сотрудника тайной полиции рассказывает о делах царской охранки, содержит подробные детали о работе профессиональных революционеров. Описаны приемы по внедрению агентов в преступную среду и внешнему наблюдению. Мы узнаем, что тайная полиция — контрреволюционная и контртеррористическая организация и занималась не просто поимкой обычных преступников. Ее задачей было выявление шпионов и врагов режима, на что была направлена задача внедренных агентов и проверка корреспонденции с целью сохранения государственности в России.
Повествование насыщенное и яркое, рассказано как об удачных, так и о провальных операциях, методах вербовки, тактике борьбы, проведению оперативно-разыскной работы. Заварзин имел колоссальный разыскной опыт, поднялся по карьерной лестнице с адъютанта до начальника управления, но после Февральской революции 1917 года все жандармские отделения решением Временного правительства были срочно ликвидированы, архивы сожжены, а руководство арестовано.
Не избежал этой участи и автор. После освобождения он эмигрировал во Францию, где и написал воспоминания о работе в спецслужбе. Информация, приведенная в книге, подлинна и очень интересна для исследователей противоборства отечественной спецслужбы с экстремистскими организациями.
Переплет, формат 130x206 мм, объем 192 с.

Примечания
1
Карело-финская деревня под Петроградом.
(обратно)
2
Ленин, в своем письме к членам ЦК, еще 24 октября 1917 г. писал: «Нельзя ждать! Можно потерять все. Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября. Правительство колеблется. Надо добить его, во что бы то ни стало».
В.И. Ленин. Сочинения. Т. 21. С. 362.
«Добивание» правительства, борьба большевиков за власть, а также насильственное привитие коммунистических форм общественного устройства обошлись народам России в 30 млн человеческих жизней.
В советских изданиях, мы находим следующие итоги первого этапа: «Период 1917–1923 гг. характеризуется не только приостановкой роста, но даже непосредственной убылью населения страны. Если при нормальном естественном приросте в современных границах СССР население должно было к 1923 г. (за 9 лет с 1914 по 1923 гг.) увеличится на 18 %, или на 25 миллионов человек, то в действительности под влиянием сильного падения рождаемости, голода и резким сокращением работы, оно снизилось на 5,5 миллионов человек». («Материалы по пятилетнему плану развития промышленности СССР». Гостехиздат. Москва, 1927 г.).
(обратно)
3
Ленин В.И. Соч. Т. 24. С. 343.
(обратно)
4
Ленин В.И. Соч. ТТ. 1 и 19. С. 754, 762 и 207.
(обратно)
5
Выдержки из речи Ф. Дзержинского на Совещании президиума ВСНХ СССР с местными органами и из речи Ф. Дзержинского на совещании 3 декабря 1924 г.:
«Вопрос вооруженной борьбы, окончившейся в вашу пользу, сменился сейчас периодом борьбы на экономическом фронте, на поле достижений по производительности труда. Я вам укажу на основании отчетных данных нашей промышленности, сколько в 1923-24 году требовалось рабочих на ту работу, на которую в 1913 г. требовалось 100 человек: по каменноугольной промышленности — 214, нефтедобывающей — 179, нефтеперерабатывающей — 213, цементной — 212, текстильной — 203, обувной — 235, военно-химической — 292, спичечной — 249, свекло-сахарной — 200, табачной — 318 вместо 100».
«...Приведу вам данные о ценах на промышленную продукцию по основным отраслям, по состоянию на 1 октября 1924 г. в %% к ценам 1913 г.: кожевенная — 218, пищевая — 211, силикатно-строительная — 208, металлическая — 177, текстильная — 178, лесная — 176, электротехническая — 160. В среднем по всей промышленности —
177%».
«...Торговые наценки крайне высоки, я могу привести данные об обследовании Коммунторгом 100 городов. Наценки на 1 апреля 1924 г. по отдельным товарам были: по ситцу — 31 %, к октябрю 1924 г. поднялась до 43 %, керосин — 33,3 %, выросла до 33,8, соль была 110, стала 122 %, сахарный песок— наценка была 12,7, стала 19,6, махорка была 38,5, стала 46,29 %».
Выдержка из резолюции совещания по докладу Дзержинского: «...Наша промышленность и темп накопления в ней зависит от общего роста производительных сил страны и в особенности от крестьянского хозяйства и накопления в пределах этого хозяйства, покупательная способность которого определяет в значительной мере емкость внутреннего рынка». (По «Материалам расширенных совещаний президиума ВСНХ СССР с местными работниками». — 3–6 декабря 1924 г. Москва 1926 г.
(обратно)
6
Через несколько дней Микоян телеграфно утвердил мое назначение.
(обратно)
7
ТУДЕ (сокр. от Хезбе тудейе Иран — Народная партия Ирана), иранская политическая партия —
Ред.
(обратно)
8
«Шахсей-Вахсей» — религиозная церемония у мусульман-шиитов, имитирующая страдания и гибель Хусейна — сына халифа Али (зятя Мухаммеда), убитого в битве при Кербеле (680 г.). Сопровождается самоистязаниями и возгласами: «Шах Хусейн! Вай Хусейн!» — Царь Хусейн! О, Хусейн! (отсюда название). —
Ред.
(обратно)
9
Международный скандал 1948 г., в начале «холодной войны», был связан с именем Оксаны Степановны Касенкиной, учительницы химии в советской школе в Нью-Йорке, выпавшей из окна третьего этажа советского консульства в Нью-Йорке. Инцидент и его освещение в западной прессе и по радио привели к тотальному подавлению в СССР и странах Советского блока любых западных радиотрансляций, в том числе музыкальных и не связанных с политикой —
Ред.
(обратно)
10
Дашнаки — члены армянской буржуазно-националистической контрреволюционной партии, возникшей в начале 90-х годов XIX века. Официальное название на русском языке — Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФ «Дашнакцутюн»). Дашнаки призывали все слои народа, в том числе и духовенство, к борьбе за национальное освобождение. Они рассматривали себя как авангард нации в целом, а не отдельных групп армян. Пропагандировали идеологию, которая была схожа с русским популизмом, но отрицала первостепенность национальности и делала акцент на межклассовой борьбе. —
Ред.
(обратно)
Оглавление
Васильев Лев Мстиславович
Пути советского империализма. Советская экономическая система и основа внешней политики СССР
Предисловие
Глава I
Большевистский пролог
Глава II
Гнет бюрократизма
Глава III
В коммунистическом тупике
Глава IV
Налоговый пресс страны
Глава V
В стране чадры
Глава VI
«Шахсей-Вахсей»[8]
Глава VII
«Опьянение нефтью»
Глава VIII
Политика насилия, подкупа и интриг
Заварзин Павел Павлович
РАБОТА ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ
*** Примечания *** 










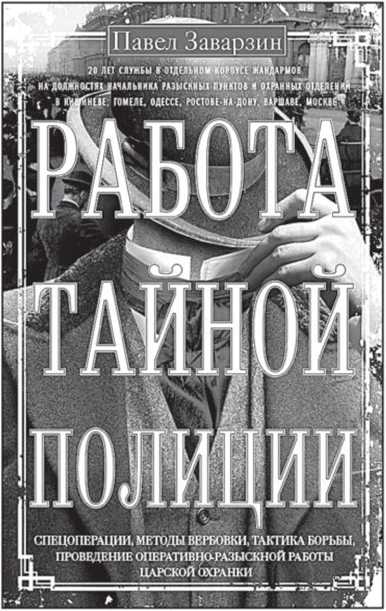 Павел Павлович Заварзин — российский жандармский офицер, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов. Книга сотрудника тайной полиции рассказывает о делах царской охранки, содержит подробные детали о работе профессиональных революционеров. Описаны приемы по внедрению агентов в преступную среду и внешнему наблюдению. Мы узнаем, что тайная полиция — контрреволюционная и контртеррористическая организация и занималась не просто поимкой обычных преступников. Ее задачей было выявление шпионов и врагов режима, на что была направлена задача внедренных агентов и проверка корреспонденции с целью сохранения государственности в России.
Повествование насыщенное и яркое, рассказано как об удачных, так и о провальных операциях, методах вербовки, тактике борьбы, проведению оперативно-разыскной работы. Заварзин имел колоссальный разыскной опыт, поднялся по карьерной лестнице с адъютанта до начальника управления, но после Февральской революции 1917 года все жандармские отделения решением Временного правительства были срочно ликвидированы, архивы сожжены, а руководство арестовано.
Не избежал этой участи и автор. После освобождения он эмигрировал во Францию, где и написал воспоминания о работе в спецслужбе. Информация, приведенная в книге, подлинна и очень интересна для исследователей противоборства отечественной спецслужбы с экстремистскими организациями.
Переплет, формат 130x206 мм, объем 192 с.
Павел Павлович Заварзин — российский жандармский офицер, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов. Книга сотрудника тайной полиции рассказывает о делах царской охранки, содержит подробные детали о работе профессиональных революционеров. Описаны приемы по внедрению агентов в преступную среду и внешнему наблюдению. Мы узнаем, что тайная полиция — контрреволюционная и контртеррористическая организация и занималась не просто поимкой обычных преступников. Ее задачей было выявление шпионов и врагов режима, на что была направлена задача внедренных агентов и проверка корреспонденции с целью сохранения государственности в России.
Повествование насыщенное и яркое, рассказано как об удачных, так и о провальных операциях, методах вербовки, тактике борьбы, проведению оперативно-разыскной работы. Заварзин имел колоссальный разыскной опыт, поднялся по карьерной лестнице с адъютанта до начальника управления, но после Февральской революции 1917 года все жандармские отделения решением Временного правительства были срочно ликвидированы, архивы сожжены, а руководство арестовано.
Не избежал этой участи и автор. После освобождения он эмигрировал во Францию, где и написал воспоминания о работе в спецслужбе. Информация, приведенная в книге, подлинна и очень интересна для исследователей противоборства отечественной спецслужбы с экстремистскими организациями.
Переплет, формат 130x206 мм, объем 192 с.

Последние комментарии
1 день 2 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 19 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 4 часов назад